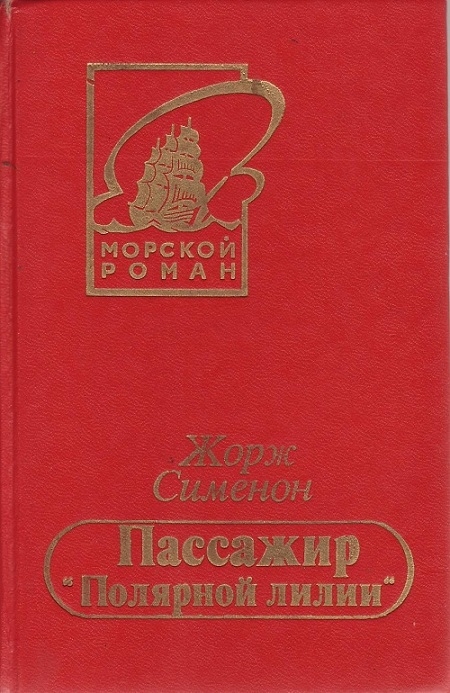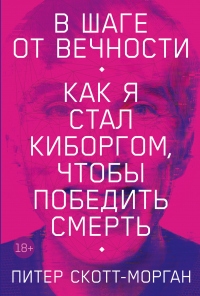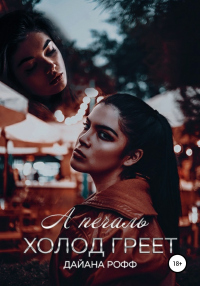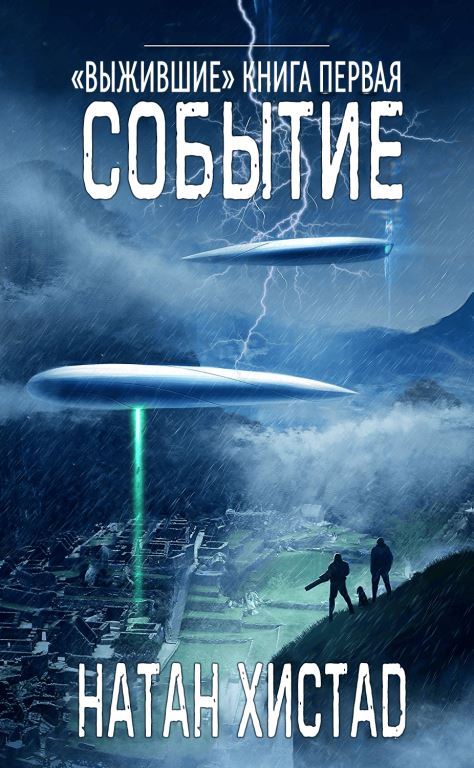Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Авторский сборник «морских» романов всемирно известного французского писателя Жоржа Сименона (1903–1989).
Содержание: — «Пассажир «Полярной лилии» (роман, пер. Ю. Корнеева), стр. 3—158 — «Семейство Питар» (роман, пер. Э. Шрайбер), стр. 159—313 — «Безбилетный пассажир» (роман, пер. М. Таймановой), стр. 314—516 — «Роман о человеке» (эссе, пер. Э. Шрайбер), стр. 517—525
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Жорж Сименон»: