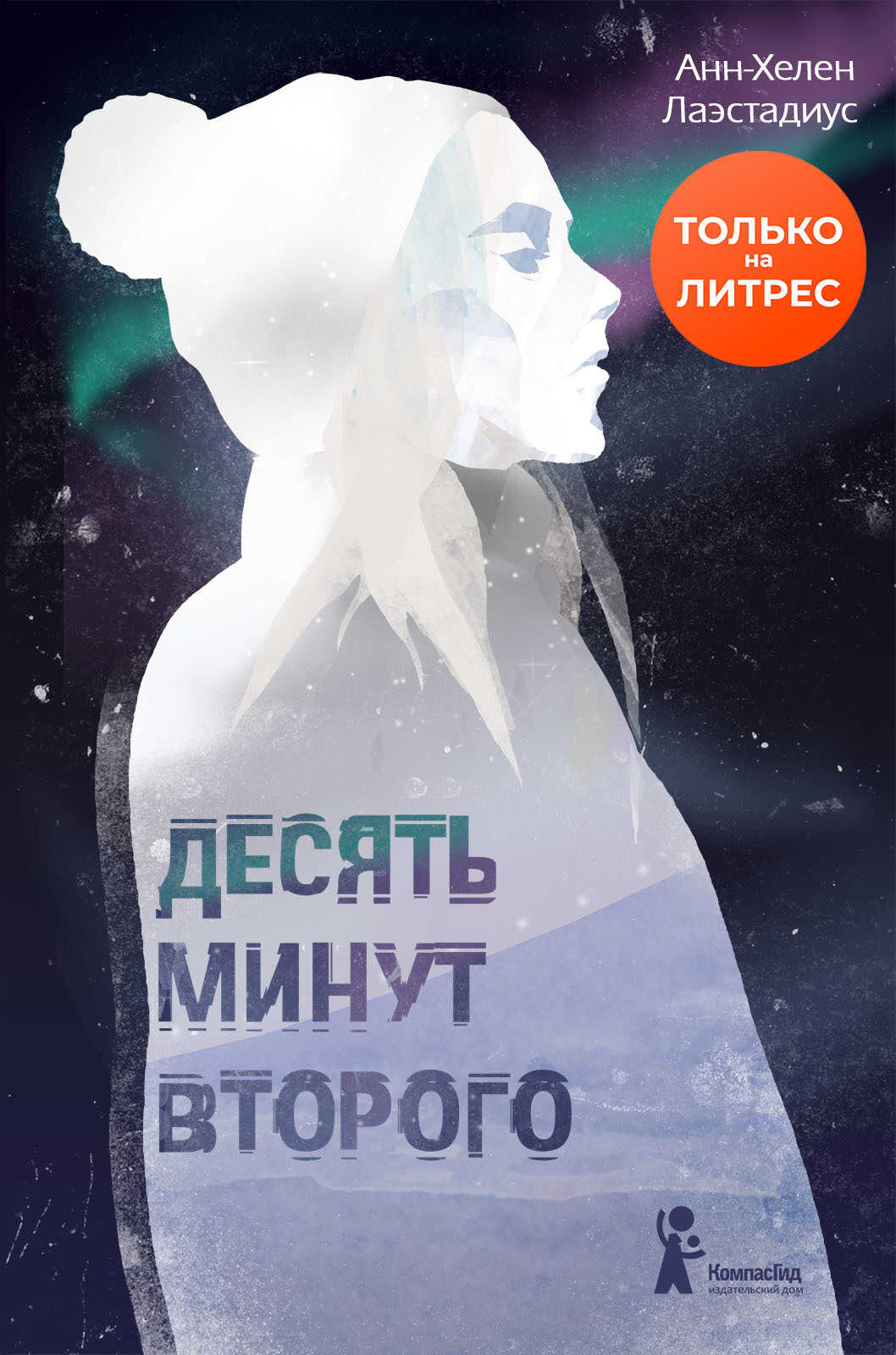Шрифт:
Закладка:
«Я по собственной воле, находясь в здравом уме и твердой памяти, соглашаюсь на передачу мне воспоминаний…»Как же хорошо, что люди научились сохранять и принимать в себя память умерших! Ведь это «наследство» действительно очень дорого друзьям и родственникам. Если же умерший был одинок или от его воспоминаний откажутся, то на помощь придут добровольцы.Впрочем, в жизни каждой из четырех героинь случаются и свои потрясения. Как Галке принять неизбежность смерти самого близкого человека? Может ли Дана спастись от токсичной отцовской любви и сберечь младших брата и сестру? А как быть Маше, которая изо всех сил стремится повзрослеть и нести ответственность хотя бы за кота? И что делать Кристине со своим маленьким сыном, которого ей так сложно полюбить?…Это роман-эмоция о простом человеческом тепле, о дружбе, милосердии и памяти.