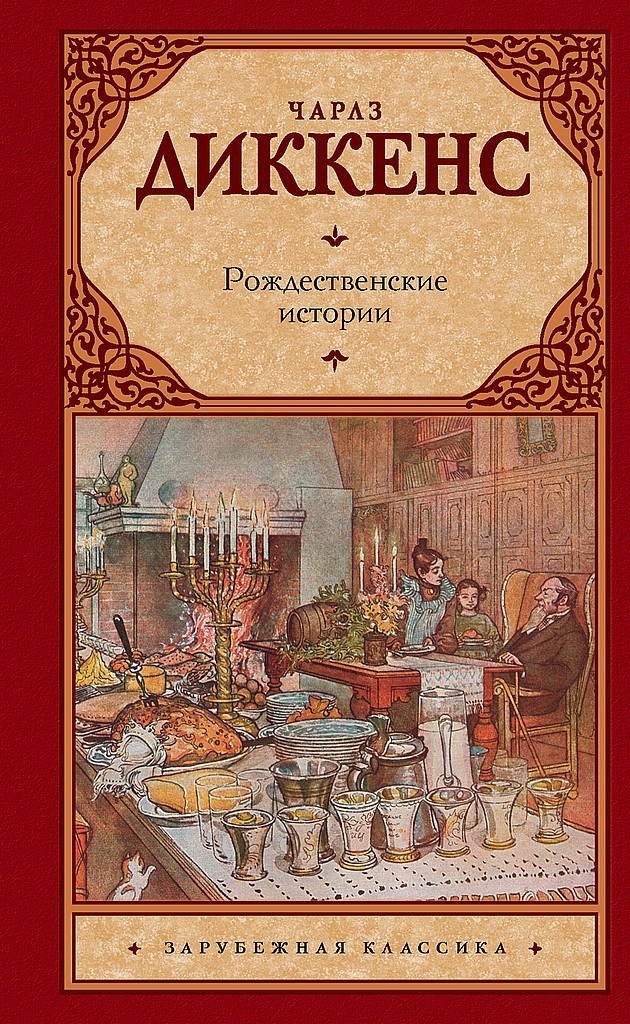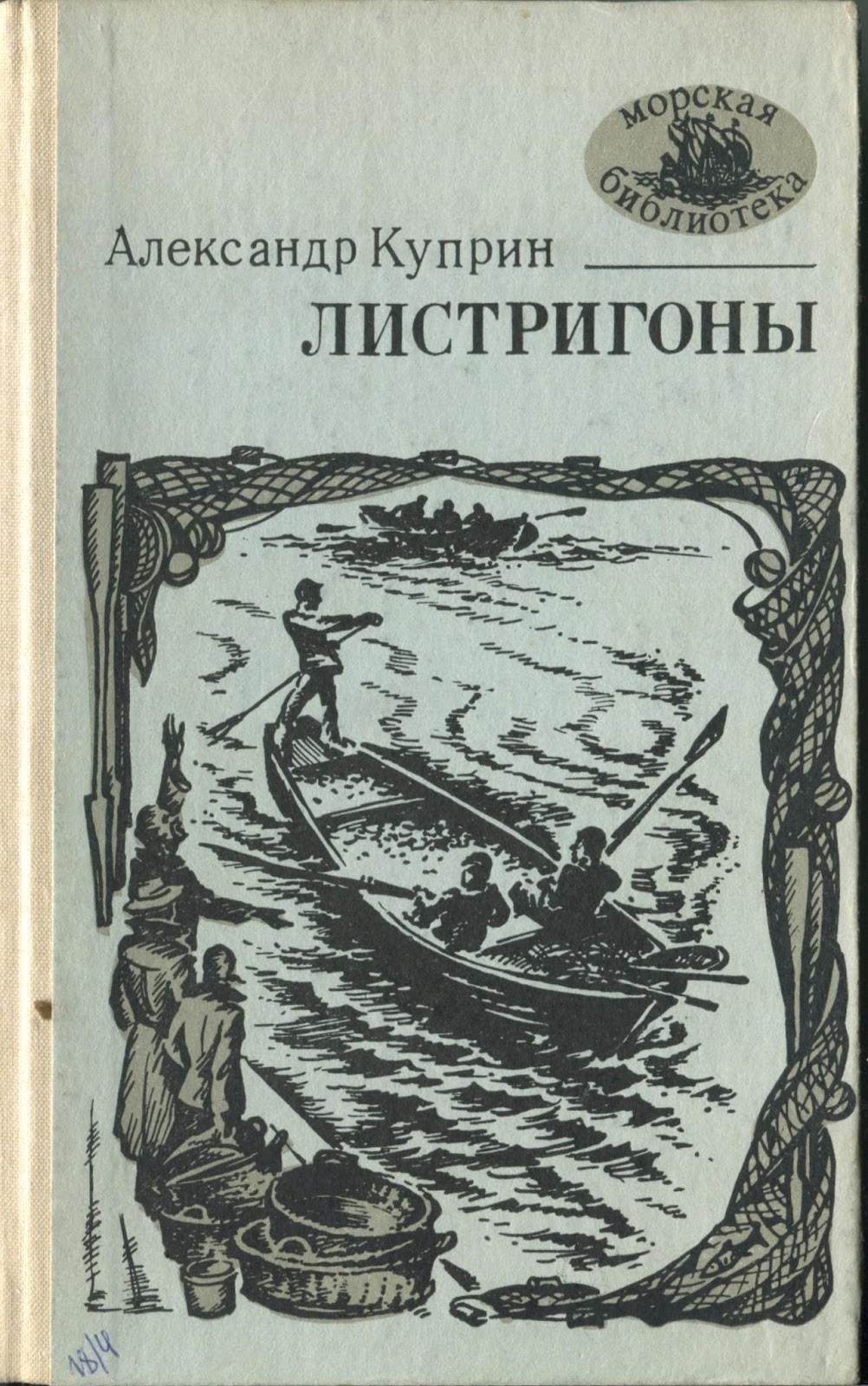Шрифт:
Закладка:
«Рождественские истории» были задуманы Диккенсом как социальная проповедь, и в 40-е годы XIX века каждый год под Рождество выходила в свет одна из пяти повестей. Посредством художественных образов автор обращался и к бедным, и к богатым читателям, радея за улучшение доли одних и «нравственное исправление» других. Результатом стал цикл из пяти произведений, переведенных на все мировые языки, неоднократно экранизированных и ставших поистине бессмертной классикой мировой литературы. Цикл, в котором смешиваются сказка и быль, фантастика и реальность, действуют, наряду с людьми, мифологические и фольклорные персонажи, а в финале Добро непременно побеждает Зло, торжествует добродетель и карается порок. И нам, детям и взрослым, очень хочется верить, что рождественские чудеса действительно случаются…