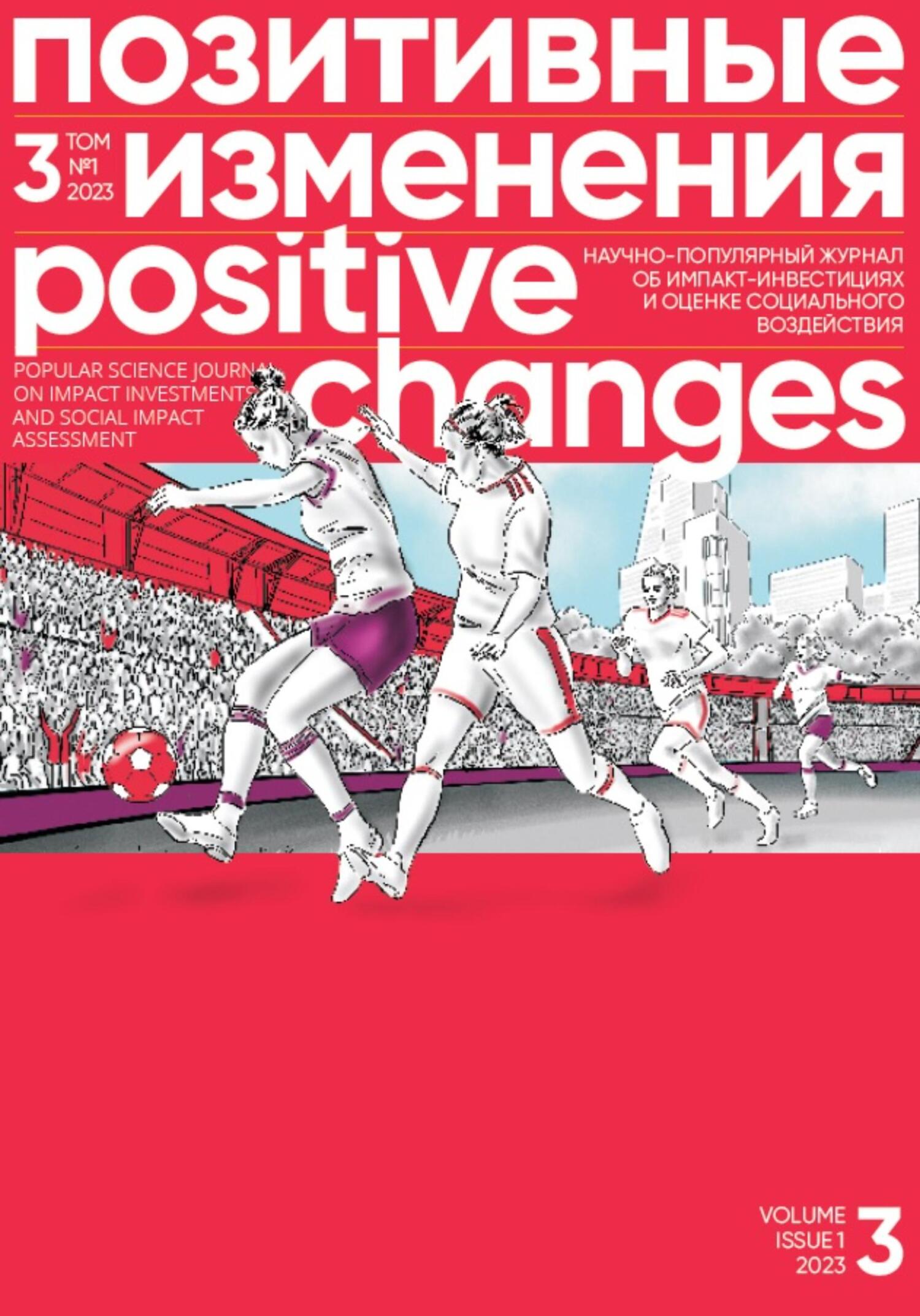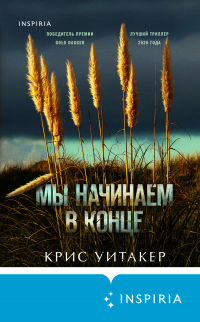Шрифт:
Закладка:
Древние греки, для которых, как и для всех дописьменных культур, тренированная память была невероятно важна, создали сложную систему мнемонических техник. Унаследованное и записанное римлянами, это искусство памяти перешло в европейскую культуру и было возрождено (во многом благодаря Джордано Бруно) в оккультной форме в эпоху Возрождения. Книга Фрэнсис Йейтс, впервые изданная в 1966 году, послужила основой для всех последующих исследований, посвященных истории философии, науки и литературы. Автор прослеживает историю памяти от древнегреческого поэта Симонида и древнеримских трактатов, через средние века, где память обретает теологическую перспективу, через уже упомянутую ренессансную магическую память до универсального языка «невинной Каббалы», проект которого был разработан Г. В. Лейбницем в XVII столетии. Помимо этой основной темы Йейтс также затрагивает вопросы, связанные с античной архитектурой, «Божественной комедией» Данте и шекспировским театром. Читателю предлагается второй, существенно доработанный перевод этой книги. Фрэнсис Амелия Йейтс (1899–1981) – выдающийся английский историк культуры Ренессанса.