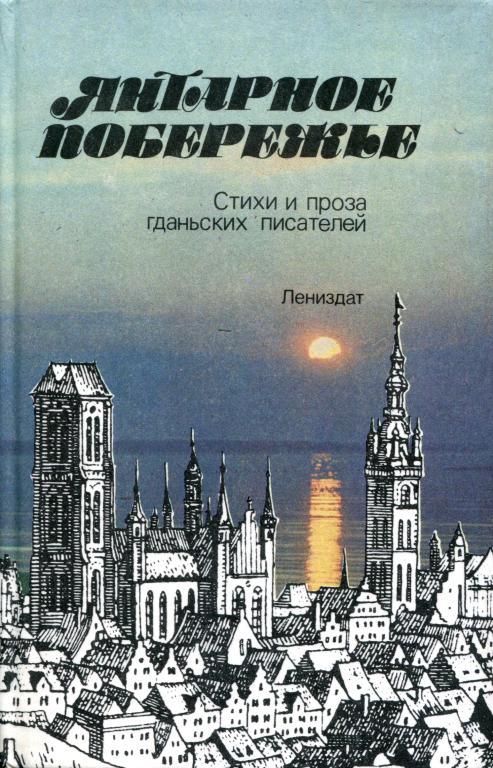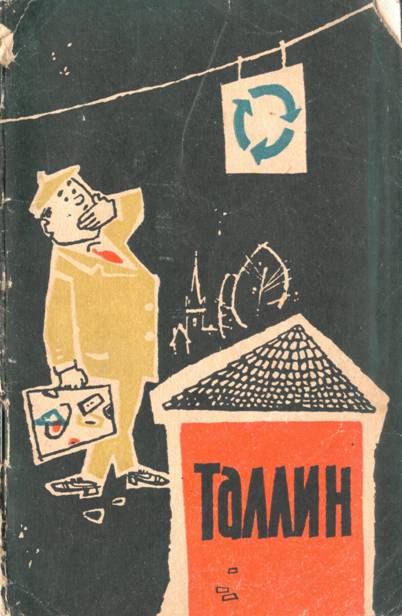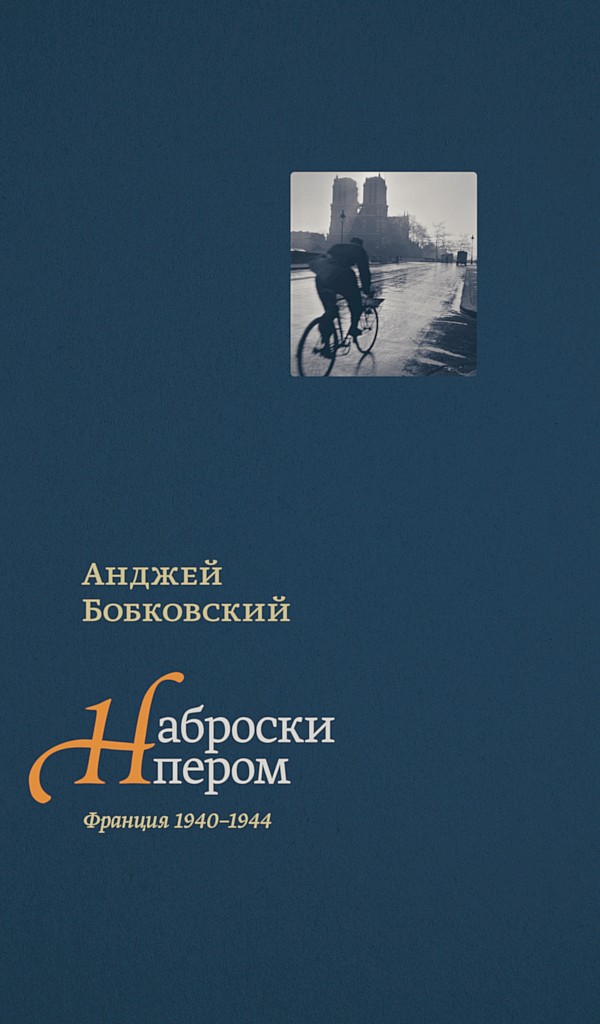Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В сборник вошли произведения польских писателей (художественная проза, поэзия, публицистика), отражающие историю и сегодняшний день Польши.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Анджей Твердохлиб»: