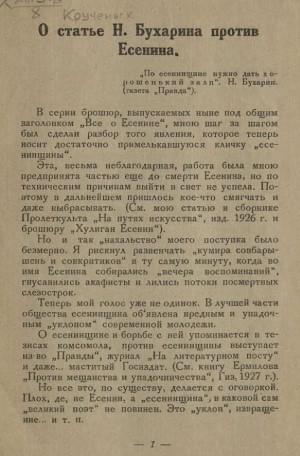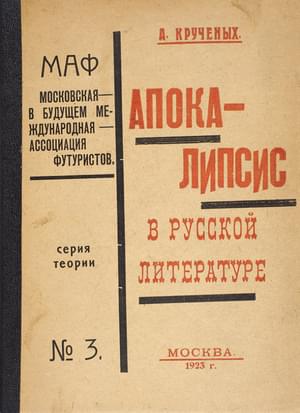Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Сборник «15 лет русского футуризма. 1912–1927 гг.» от одного из ключевых участников движения – А. Крученых. В сборник входят материалы авторства А. Крученых по истории футуризма, о творчестве В. Хлебникова, поэма «Игра в аду» с авторскими комментариями, а также материалы и автобиографии С. Кирсанова, С. Третьякова, И. Терентьева. Иллюстрации – портреты и шаржи авторства И. Терентьева, М. Синяковой и др. Продукция № 151.https://traumlibrary.ru
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Алексей Елисеевич Крученых»: