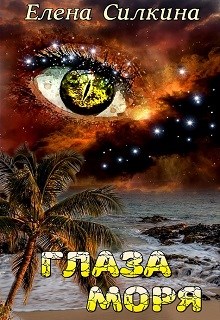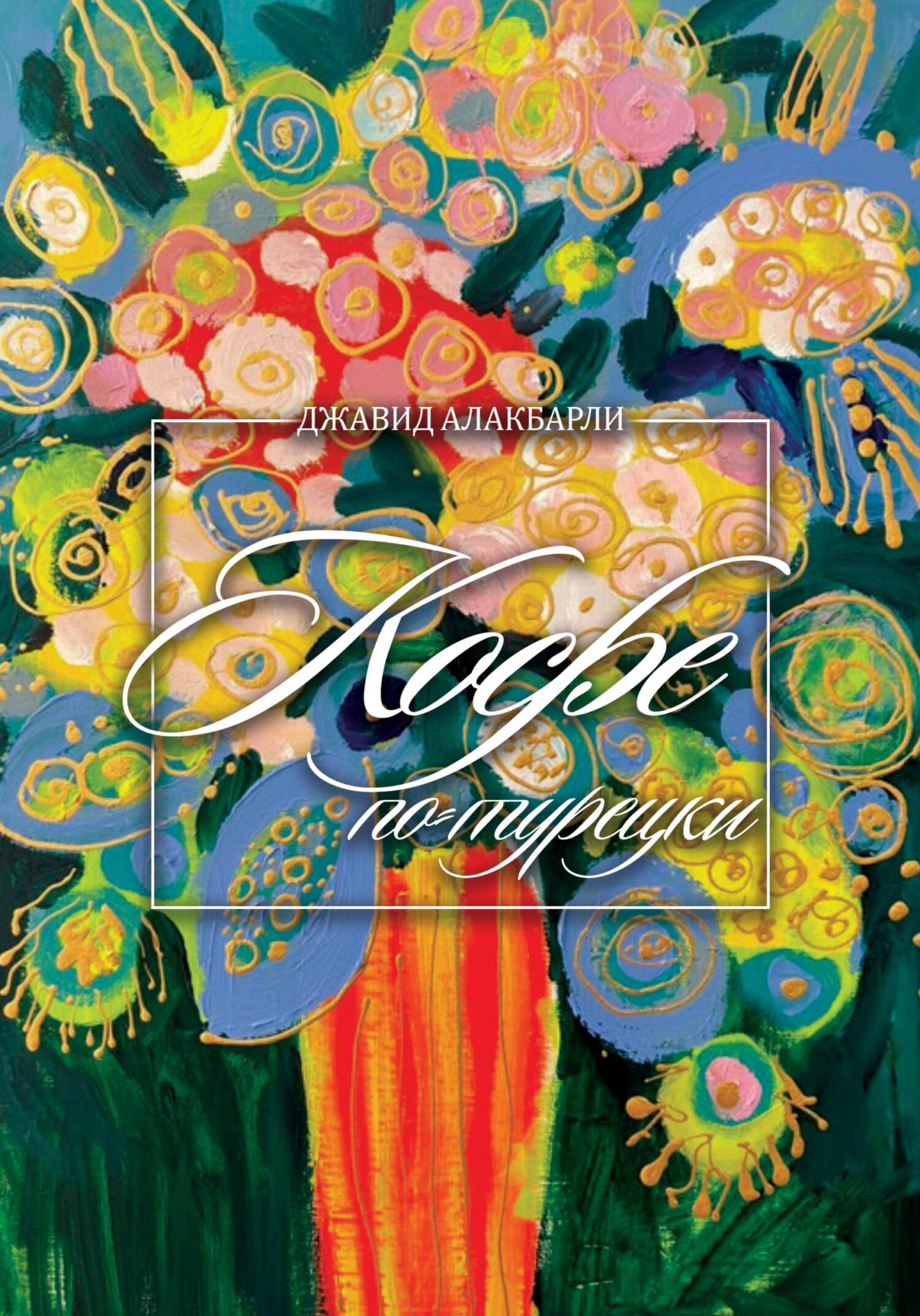Шрифт:
Закладка:
Вы любите читать книги онлайн? Тогда вам понравится новый роман Алины Ивановны Александровой «Человек Шрёдингера». Это история о том, как одна молодая женщина из провинции попадает в Москву и сталкивается с неожиданными ситуациями, людьми и чувствами. Она встречает мужчину, который живет в двух параллельных мирах: один – реальный, другой – виртуальный. Он – человек Шрёдингера, который может быть и жив, и мертв, и счастлив, и несчастлив одновременно. Она – его кошка, которая хочет открыть ящик и узнать правду. Но что будет, если она это сделает? Сможет ли она принять его таким, какой он есть? Или она потеряет его навсегда?
«Человек Шрёдингера» – это книга о любви и свободе, о выборе и ответственности, о том, что значит быть собой в мире, где все меняется с невероятной скоростью. Это книга, которая заставит вас задуматься о своей жизни и своих желаниях. Это книга, которая не оставит вас равнодушными.
Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com. Там вы найдете не только текст книги, но и отзывы других читателей, а также видео с интервью автора. Не упустите возможность погрузиться в удивительный мир «Человека Шрёдингера»!