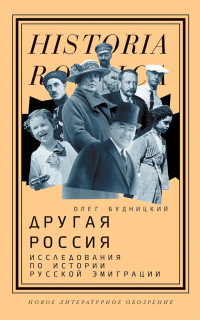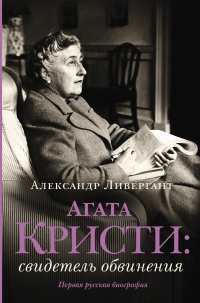Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Молодая преподавательница французского впервые сталкивается со смертью на похоронах своей бабушки, после чего каждодневный страх смерти полностью поглощает ее жизнь.Страх превращается в желание отомстить миру и Богу за свою смертность, а желание приводит к действию, навязчивому и неотвратимому.«Апоптоз» – дебютный роман Наташи Гринь. Экспериментальный текст, где детально исследуются извечные вопросы жизни и смерти.Об авторе: Филолог, преподаватель, переводчик с французского языка, редактор. Родилась и выросла в закрытом городе Озёрске Челябинской области. Закончила филологический факультет НИУ ВШЭ. Сейчас живет в Москве и Париже.Книга содержит нецензурную брань.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Наташа Гринь»: