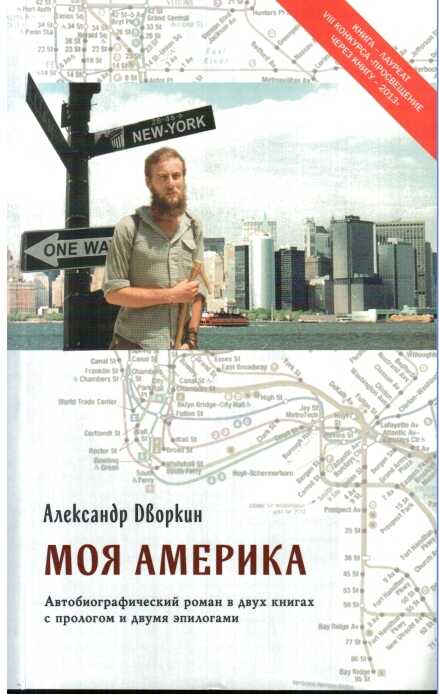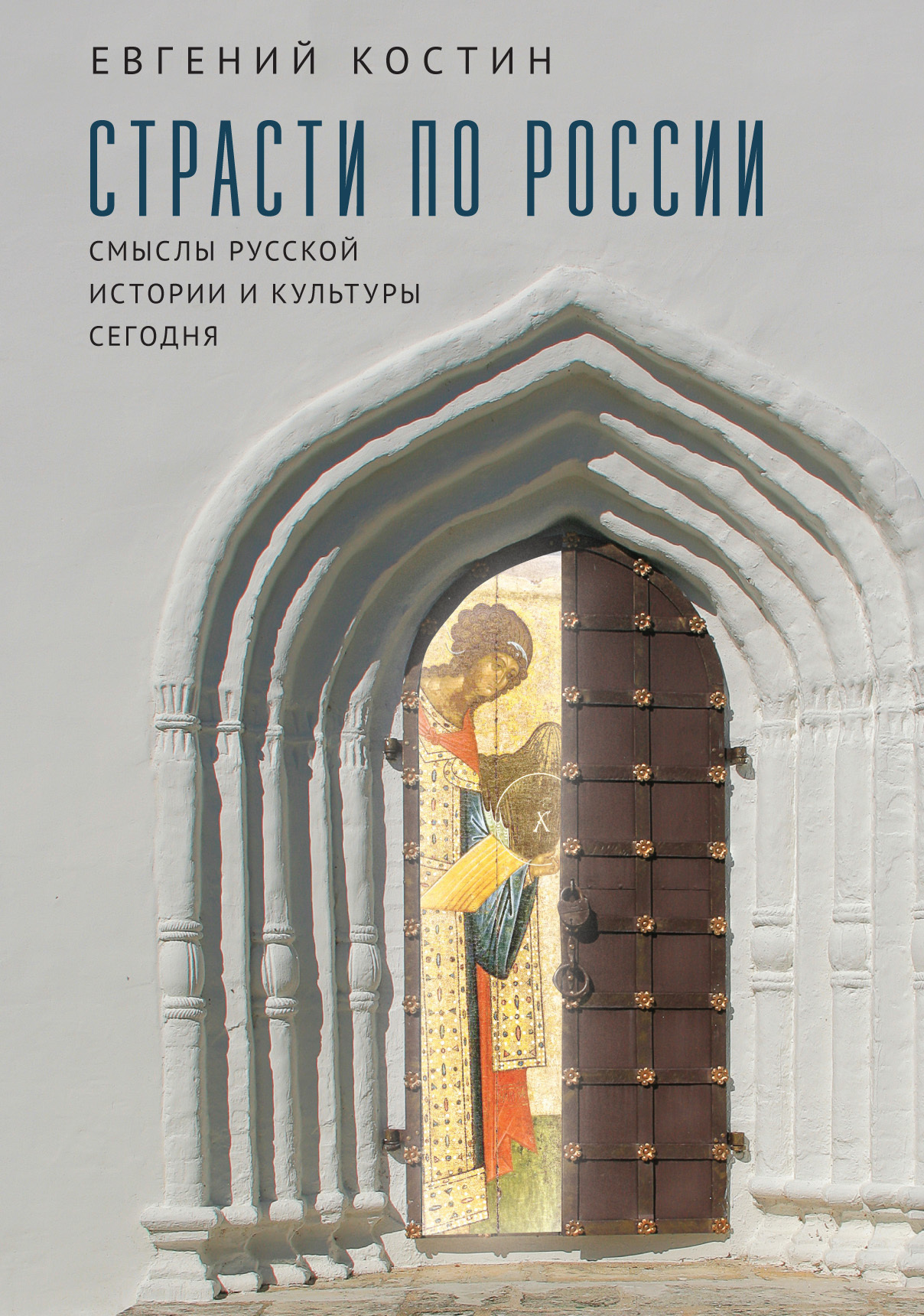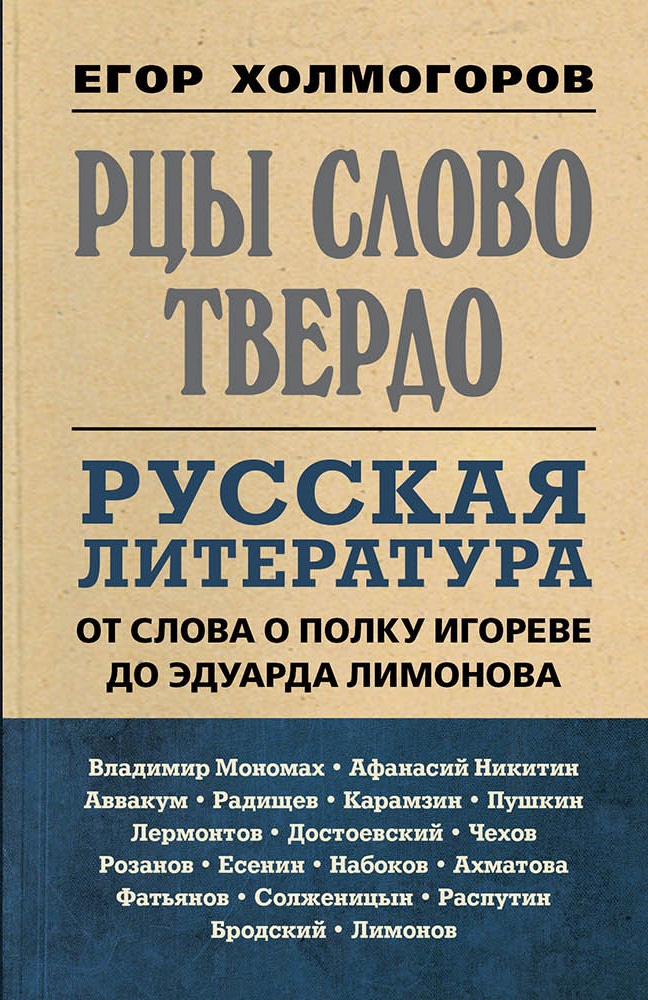Шрифт:
Закладка:
Книга Александра Дворкина «Моя Америка» — это многоплановое увлекательное чтение, остроумное беллетризованное повествование о похождениях молодого московского хиппи в США и мемуары о его учителях — протопресвитере Александре Шмемане и протопресвитере Иоанне Мейендорфе, а также о тех людях (как широко известных, так и никому не ведомых), которых встречал автор и в Свято-Владимирской академии, и на Афоне, и в Америке, и в России. Книга также ценна тем, что несет в себе свидетельство очевидца драматических отношений между Русской Православной Церковью и Русской Зарубежной Церковью накануне их воссоединения.Книгу «Моя Америка» А.Л. Дворкина можно назвать богоискательским романом — стремление к Истине, обращение к Богу, просвещение, крещение, таинственная жизнь в лоне Церкви составляют стержень, на котором держатся разноплановые впечатления, картинки, сценки, портреты.