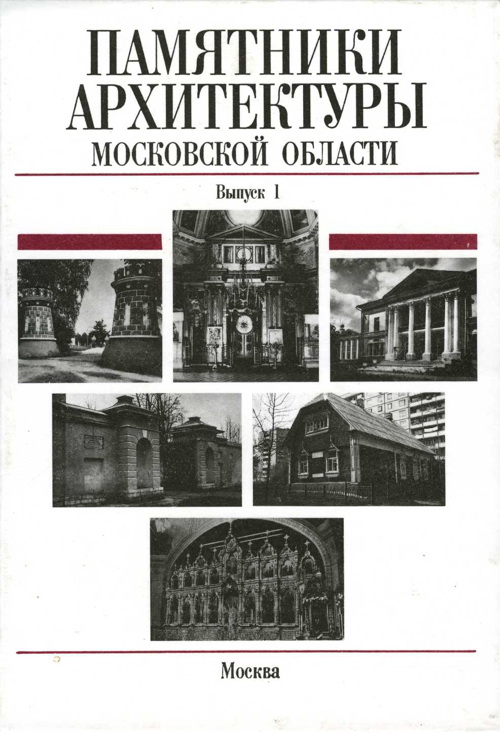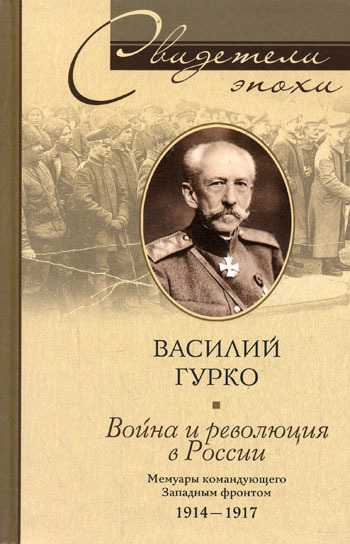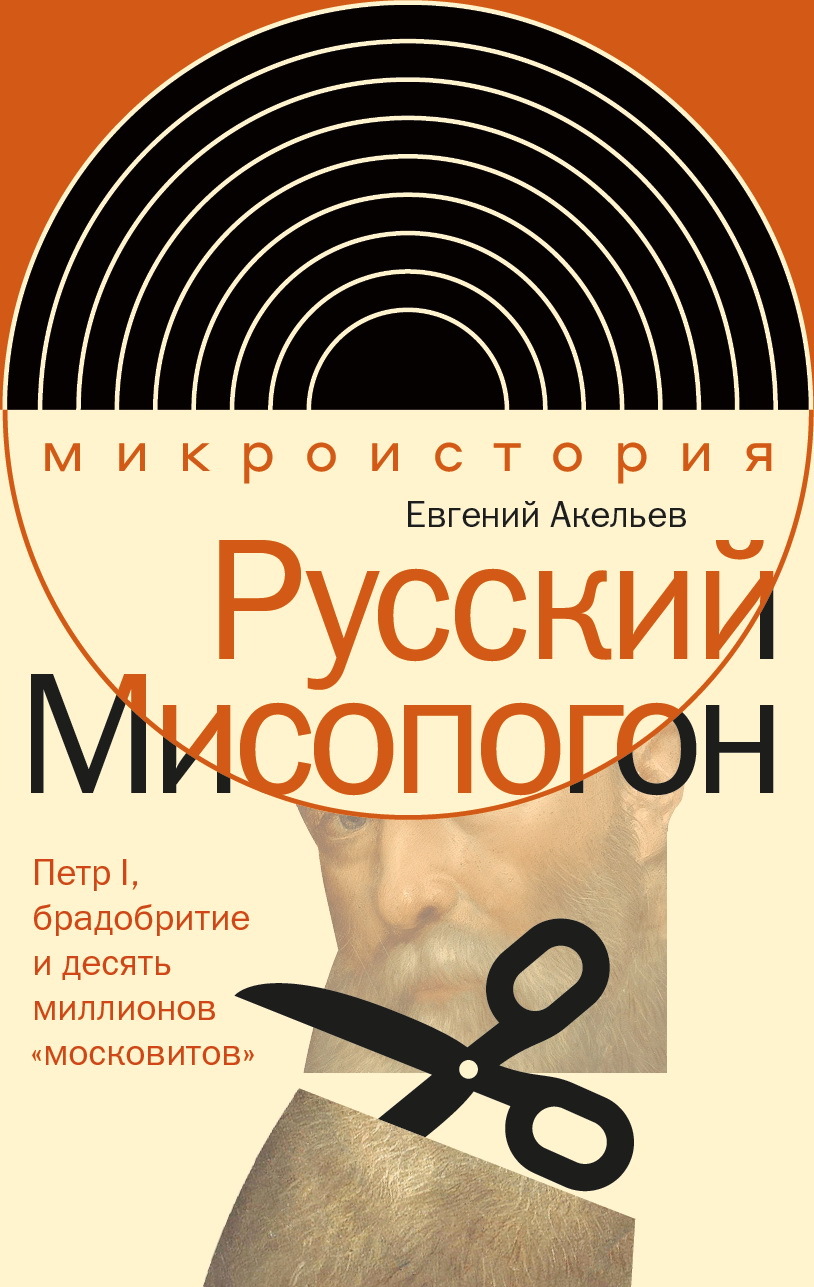Шрифт:
Закладка:
Украинский писатель Слободянюк Борис Иосифович родился в 1917 году в селе Возновцы, Жмеренского района, Винницкой области, в семье крестьянина-бедняка. Первая книга писателя — сборник рассказов «К новым высотам» — вышла в 1948 году в украинском республиканском издательстве «Советский писатель». После творческого путешествия по советскому Узбекистану Слободянюк написал повесть «Солнечная долина» о дружбе украинского и узбекского народов. Вслед за этим вышли книги: «Незабываемое», «Совхозный профессор», «Сквозь бурю». Слободянюк Б. И. участвовал в Великой Отечественной войне, он член КПСС и член Союза писателей СССР. В связи с 50-летием газеты «Правда» за долголетнюю и самоотверженную работу в советской печати Борис Иосифович награжден медалью «За трудовую доблесть». В «Орлином сердце» автор пытается осветить жизнь Петра Кошки, героя обороны Севастополя (1854–1855 гг.). Основным материалом для рассказов послужили воспоминания односельчан прославленного матроса.