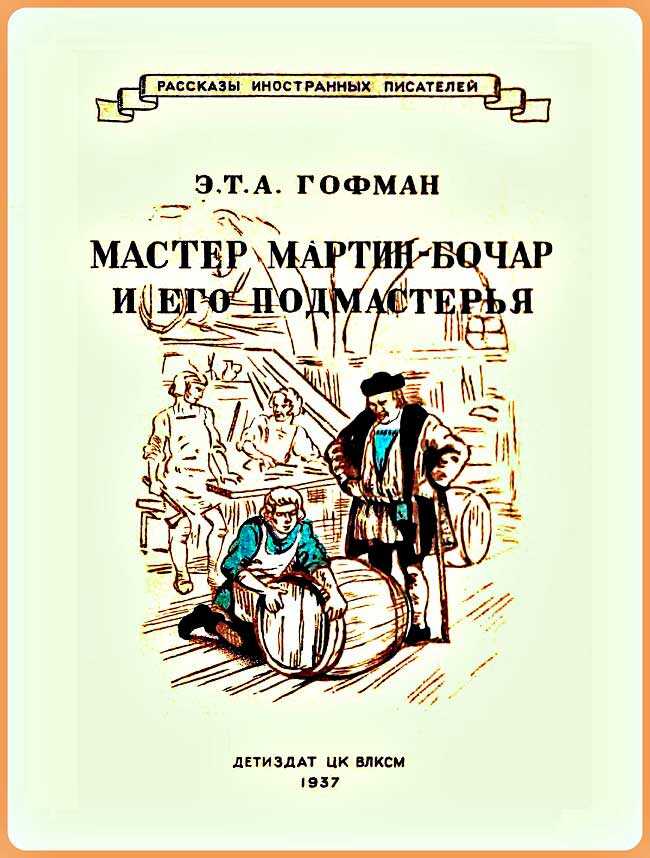Шрифт:
Закладка:
«Житейские воззрения кота Мурра» – последний роман великого немецкого писателя Э. Т. А. Гофмана, блистательный итог его творчества, соединившего реальность и фантазию, романтический порыв и едкую сатиру. Это удивительное произведение, которое сам Гофман считал лучшим из своих романов, представляет собой записки ученого кота, прагматика и эпикурейца Мурра, местами переложенные случайно попавшими в рукопись листами из биографии «безумного капельмейстера» Крейслера, энтузиаста-мечтателя, неисправимого романтика и alter ego самого Гофмана. По признанию автора, у Мурра был прототип: «Это кот дивной красоты и еще большего ума, которого я воспитал, он-то и дал мне повод к той забавной мистификации, которой пронизана эта, собственно говоря, серьезная весьма книга».