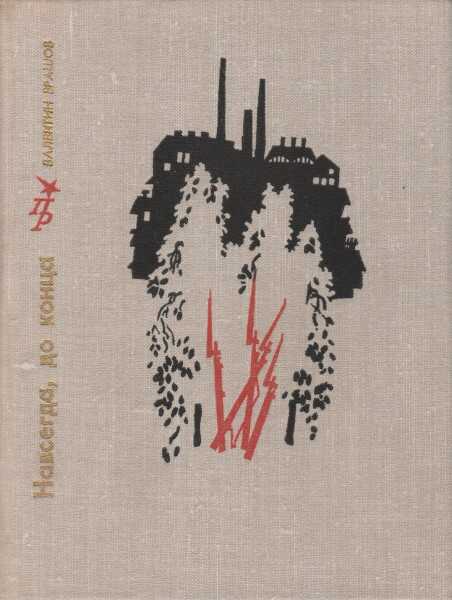Шрифт:
Закладка:
Валентин Ерашов — историк по образованию, в прошлом комсомольский и партийный работник. Его перу принадлежат роман «На фронт мы не успели», однотомник избранной прозы «Бойцы, товарищи мои», повесть «Семьдесят девятый элемент», сборники рассказов «Рассвет над рекой», «Лирика», «Снег падает отвесно» и другие. Его произведения печатались в социалистических странах, переводились на языки народов СССР.В историко-революционном жанре выступает впервые.В повести «Навсегда, до конца» писатель делает попытку, — по существу, первую в художественно-документальной литературе — рассказать об Андрее Сергеевиче Бубнове, о становлении характера и личности этого революционера, большевика, человека сложной и прекрасной судьбы. «Опытный партийный товарищ», по выражению В. И. Ленина, Андрей Сергеевич Бубнов (1883—1940) — верный соратник Владимира Ильича, принимавший самое активное участие в организации первого в России общегородского Совета рабочих депутатов, в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистической революции, руководитель Политического управления РККА, народный комиссар просвещения республики…