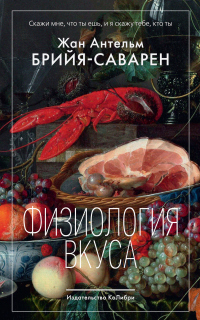Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Одна из самых знаменитых книг мировой литературы, посвященных еде, «Физиология вкуса, или Трансцендентная кулинария» Брийя-Саварена состоит из размышлений о гастрономии, об удовольствии, доставляемом едой, об обжорстве и диете, о пищеварении и общительности сытого человека, из кулинарных рецептов и житейских анекдотов. Этот трактат обожали Бальзак и Александр Дюма-отец, Россини и Пруст. Он и по сей день вдохновляет знаменитых поваров современности. Но кто его автор? Кем он был, этот Брийя-Саварен? Пожалуй, самое простое определение – «человек-оркестр». Брийя-Саварен и правда играл не последнюю скрипку во времена Великой французской революции и в эпоху Наполеона Бонапарта: философ, юрист, судья, экономист, политический деятель, депутат, музыкант, мыслитель, но самое главное – прославленный гурман, в честь которого названы улицы во многих городах Франции – в Париже, Орлеане, Дижоне, Каркассоне, Ниме, а также вкуснейший сыр с белой корочкой. В конце концов, именно Брийя-Саварен провозгласил: «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты» – и объявил хорошую кухню одной из основных духовных скреп общества.До сих пор российским читателям был доступен лишь сокращенный вариант книги, созданный Карлом Фогтом и переведенный с немецкого на русский в 1867 году. Тем отраднее представить первый полный перевод трактата Брийя-Саварена, сделанный с французского оригинала. Издание содержит множество иллюстраций.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Жан Антельм Брийя-Саварен»: