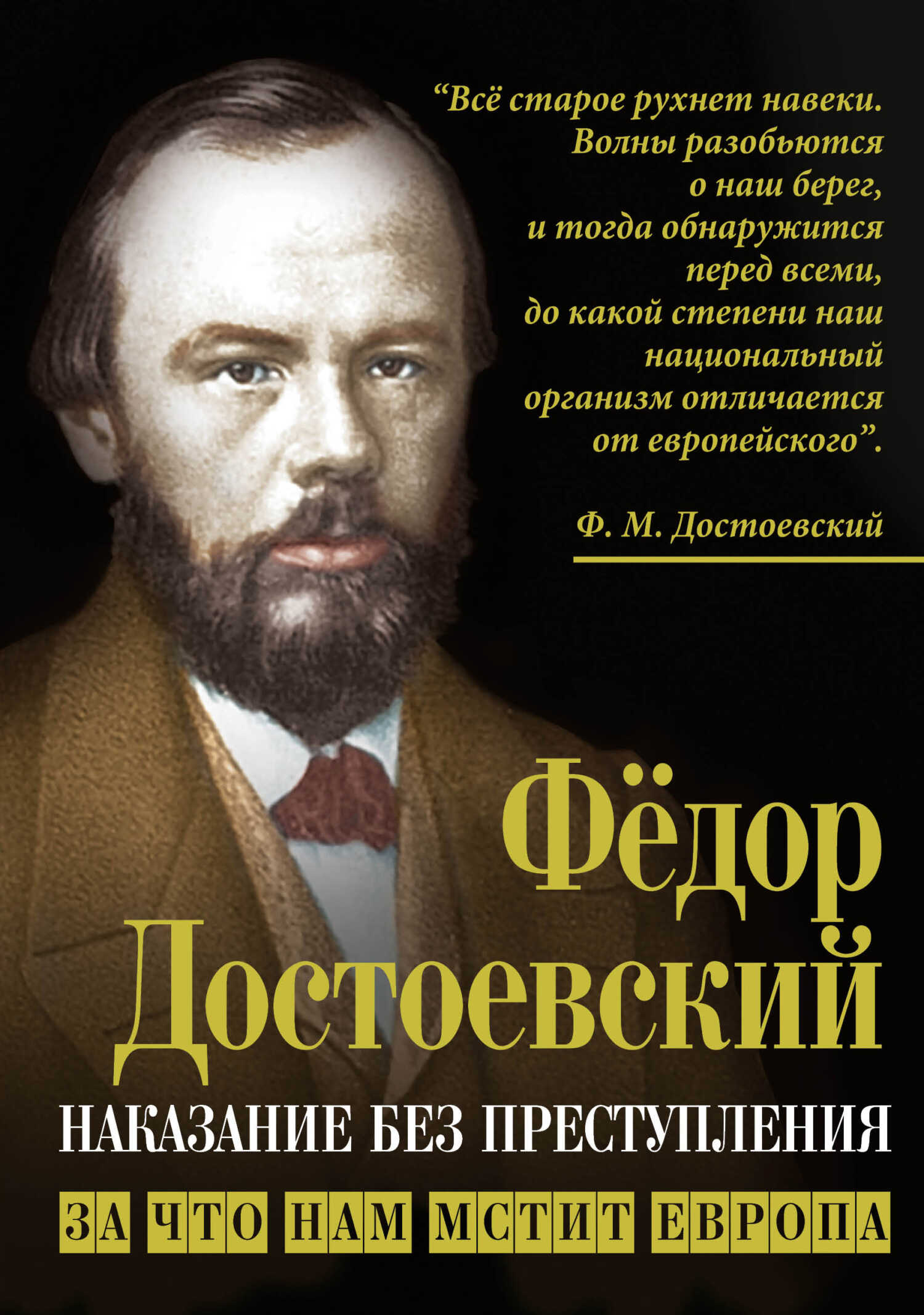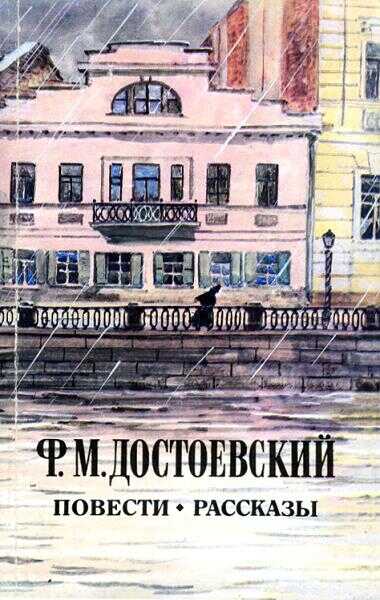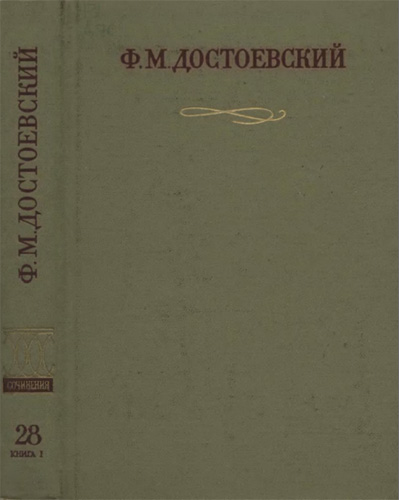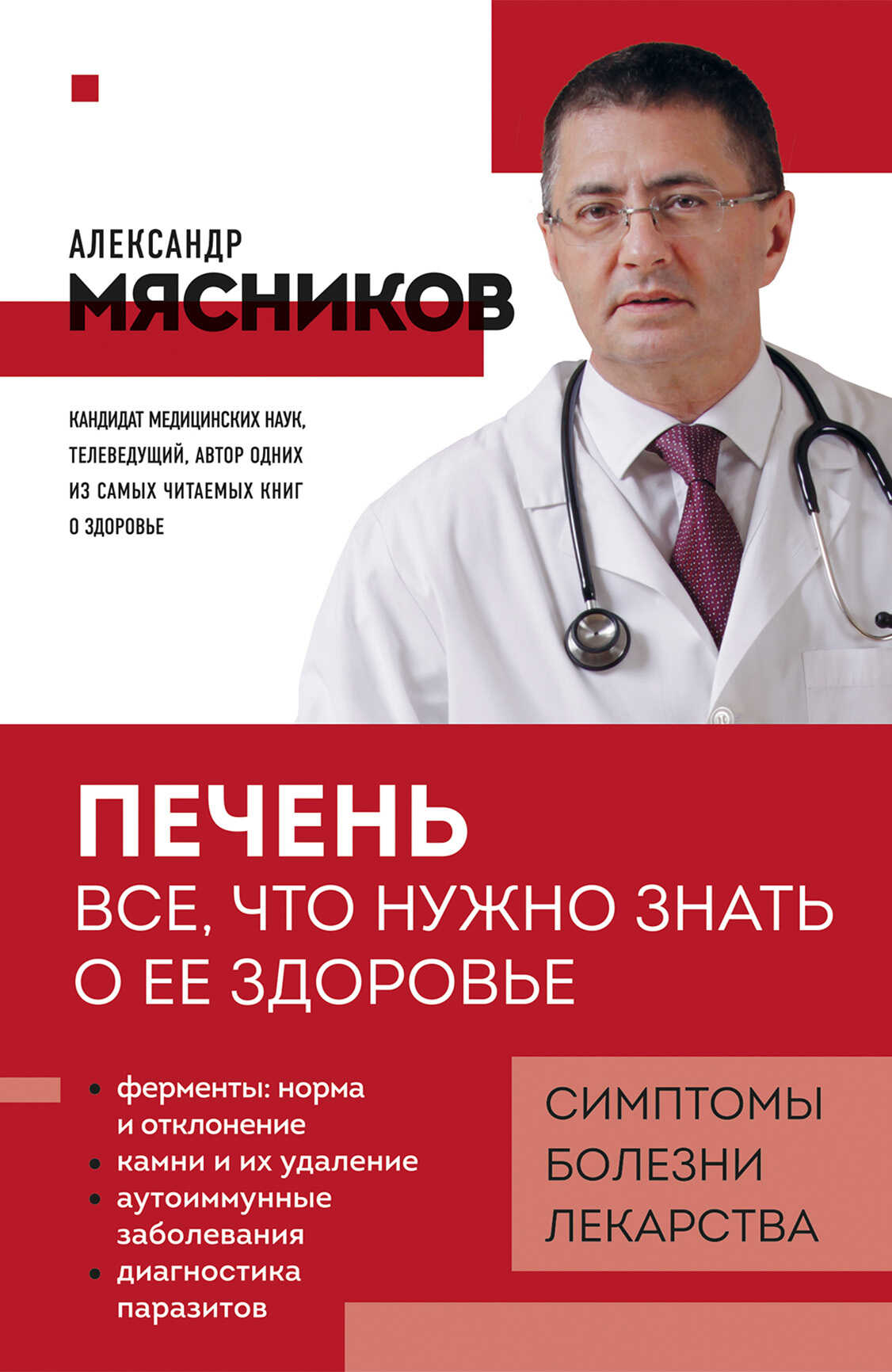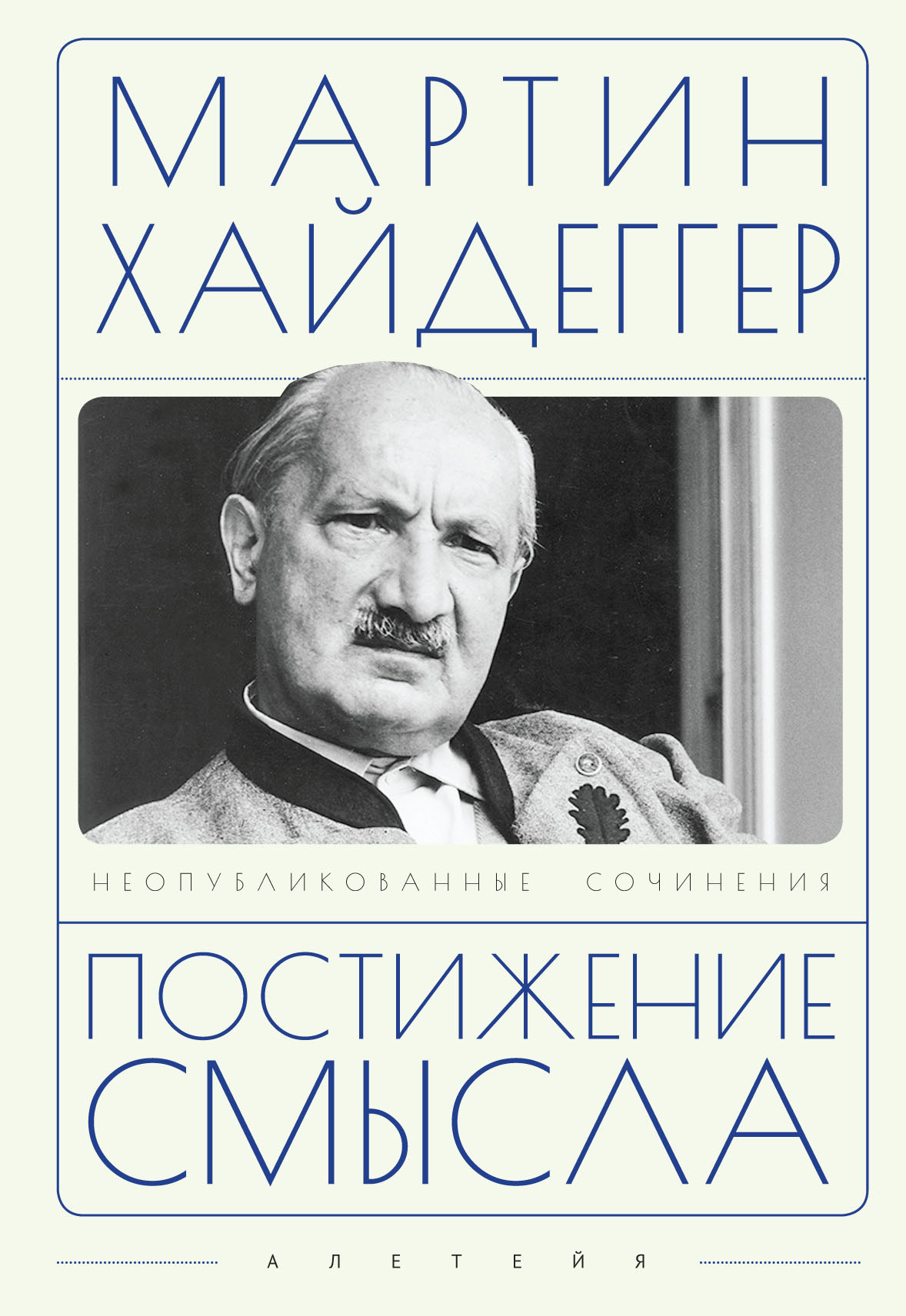Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В сборник русского писателя Ф. М. Достоевского (1821-1881) вошли повести и рассказы, такие, как: «Вечный муж», «Кроткая», «Сон смешного человека» и другие.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Федор Михайлович Достоевский»: