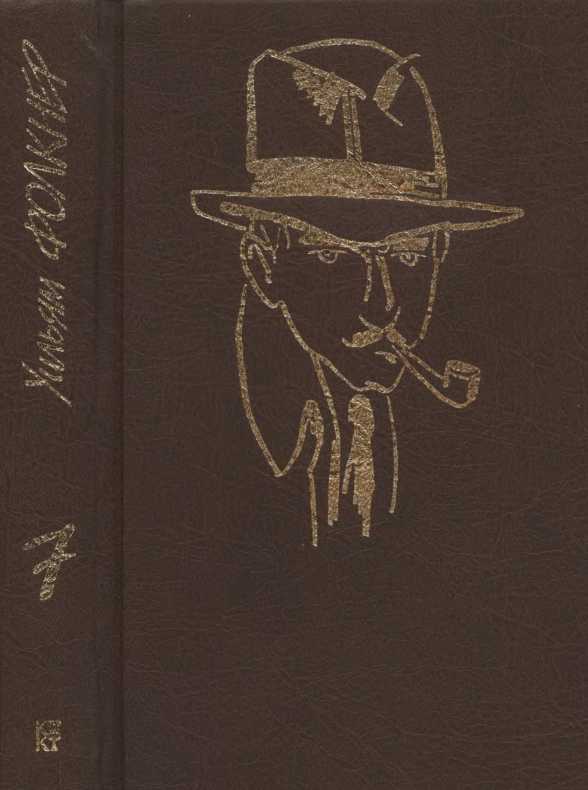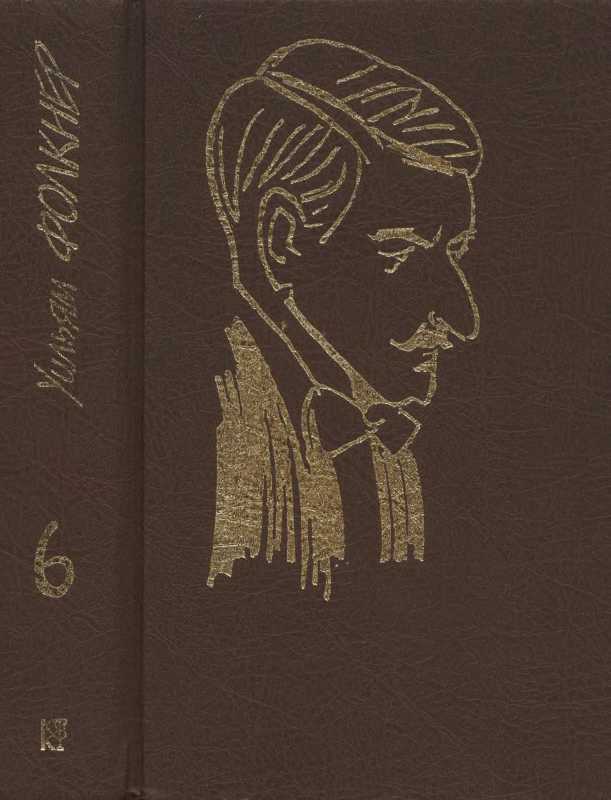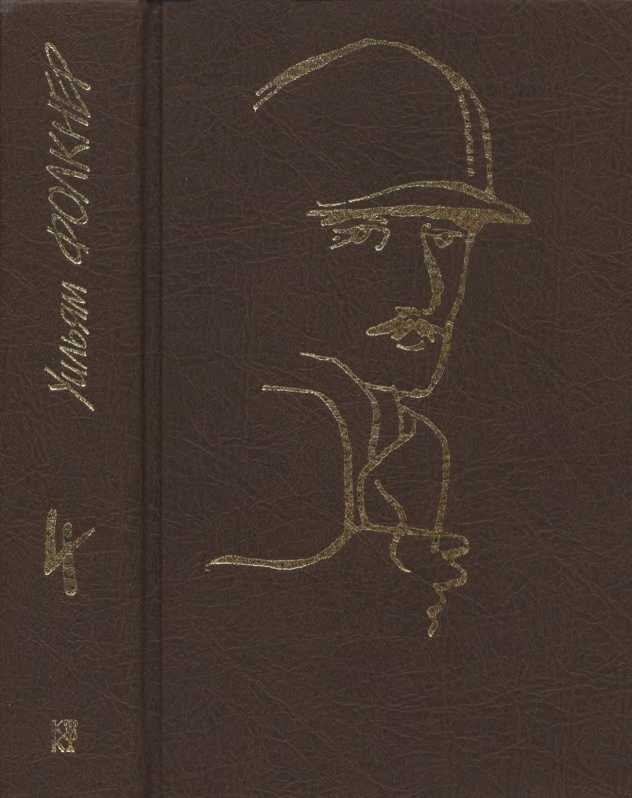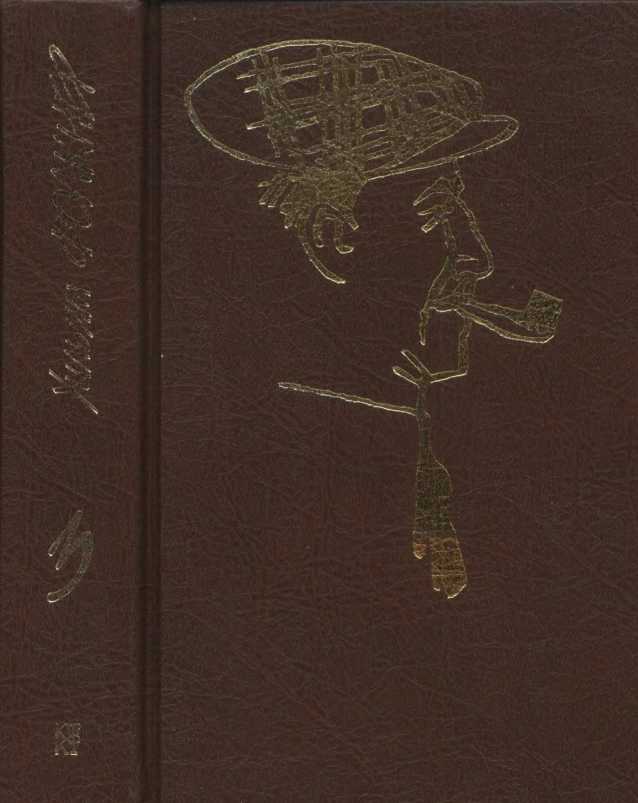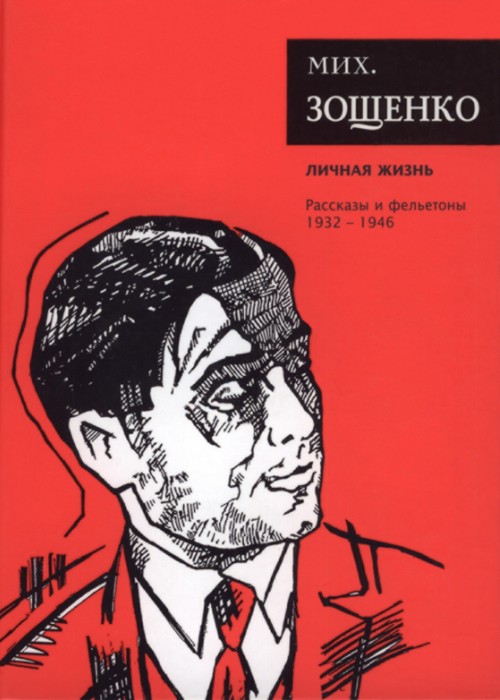Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В первый том Собрания сочинений включены ранние романы: «Солдатская награда» (1926 г.) и «Сарторис» (1929 г.), который открывает «Йокнапатофскую сагу» — цикл произведений о созданном воображением писателя маленьком округе Йокнапатофе в штате Миссисипи.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Уильям Фолкнер»: