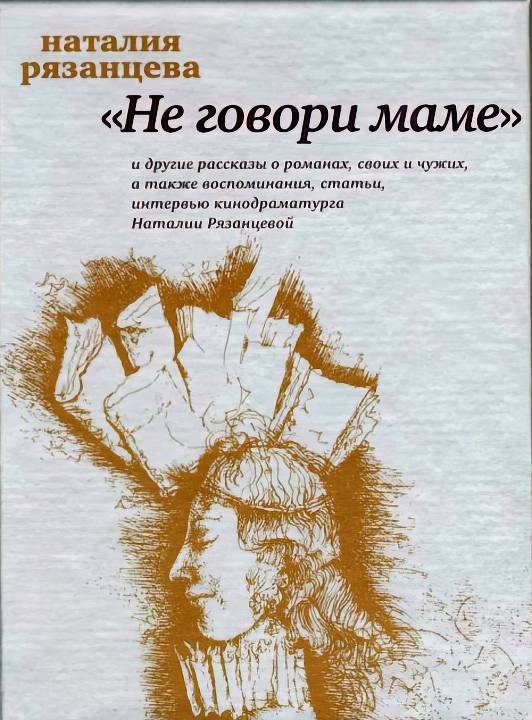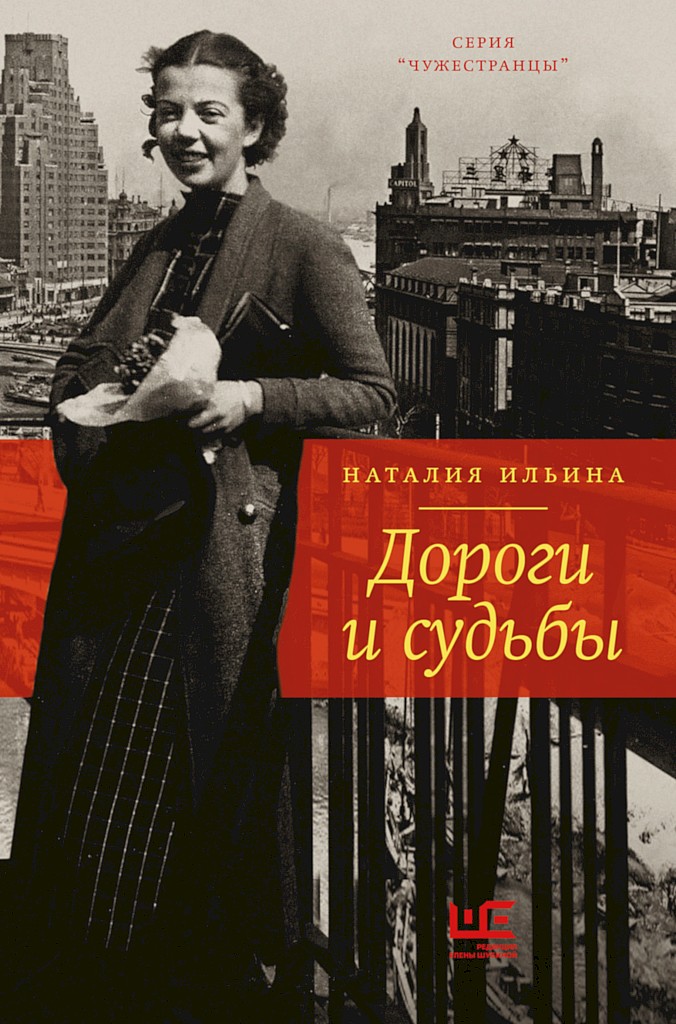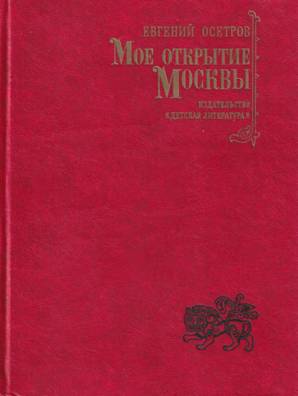Шрифт:
Закладка:
«Не говори маме» и другие рассказы о романах, своих и чужих, а также воспоминания, статьи, интервью кинодраматурга Наталии Рязанцевой. В книгу известного кинодраматурга Наталии Рязанцевой «одной из самых замкнутых и сдержанных женщин российского кинематографа» (Д. Быков), автора сценариев к фильмам «Чужие письма» «Долгие проводы», «Голос», «Портрет жены художника» вошли воспоминя о работе, любви, дружбе с людьми имена которых стали знаковыми для отечественного киноискусства. Это книга про ВГИК, про Геннадия Шпаликов и Ларису Шепитько, про Киру Муратову и Илью Авербаха, Александра Галича, про моего учителя Е.О. Габриловича про неосуществленные сценарии. Читатель найдет здесь также художественную прозу автора и статьи о кино В оформлении использован фрагмент рисунка Владимира Кейдана