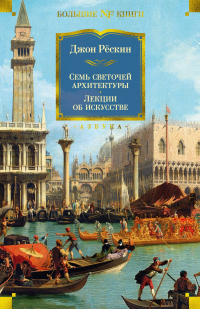Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Джон Рёскин (1819-1900) – знаменитый английский историк и теоретик искусства, оригинальный и подчас парадоксальный мыслитель, рассуждения которого порой завораживают точностью прозрений. Искусствознание в его интерпретации меньше всего напоминает академический курс, но именно он был первым профессором изящных искусств Оксфордского университета, своими «исполненными пламенной страсти и чудесной музыки» речами заставляя «глухих… услышать и слепых – прозреть», если верить свидетельству его студента Оскара Уайльда. В настоящий сборник вошли основополагающий трактат «Семь светочей архитектуры» (1849), монументальный трактат «Камни Венеции» (1851— 1853, в основу перевода на русский язык легла авторская сокращенная редакция), «Лекции об искусстве» (1870), а также своеобразный путеводитель по цветущей столице Возрождения «Прогулки по Флоренции» (1875).
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Джон Рескин»: