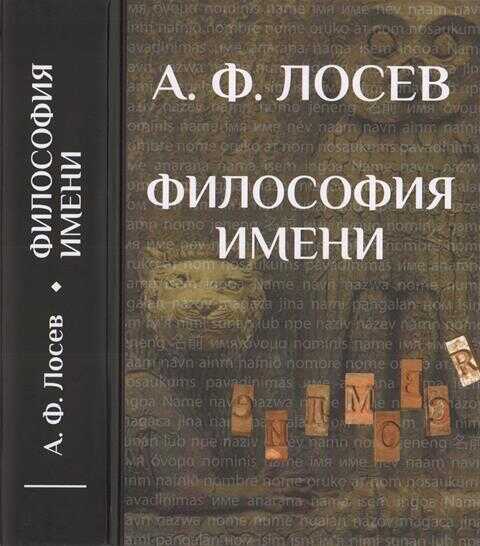Шрифт:
Закладка:
Новая книга от автора исторического романа "Золотые жилы".Действие начинается в 2013 году в Москве и Киеве. Программист Александр ходит на Болотную и мечтает уехать, но его возлюбленная скрипачка Катя не представляет себе жизни в эмиграции. Что победит: любовь или убеждения?Молодая семья Лопатиных бежит из Киева в Донецк. Меж тем на Донбасс приходит война, а вместе с ней и разлад в семью Лопатиных.Раскол в обществе, начало СВО, освобождение Мариуполя, – все эти события запечатлены в романе. Куда приведут героев пути жизни, к каким решениям, и где застанет их переломный 2022-ый год?"Нет никакой музыки войны… Война это вывороченный наизнанку миропорядок, когда Ад прорывается сквозь Землю огромной грыжей, и эта гниль заполонит собою все, если от нее не избавиться, но видит Бог, как болезненно это избавление!.."Еще до публикации книгу стали рассылать и читать без ведома автора, поэтому было решено опубликовать ее здесь.