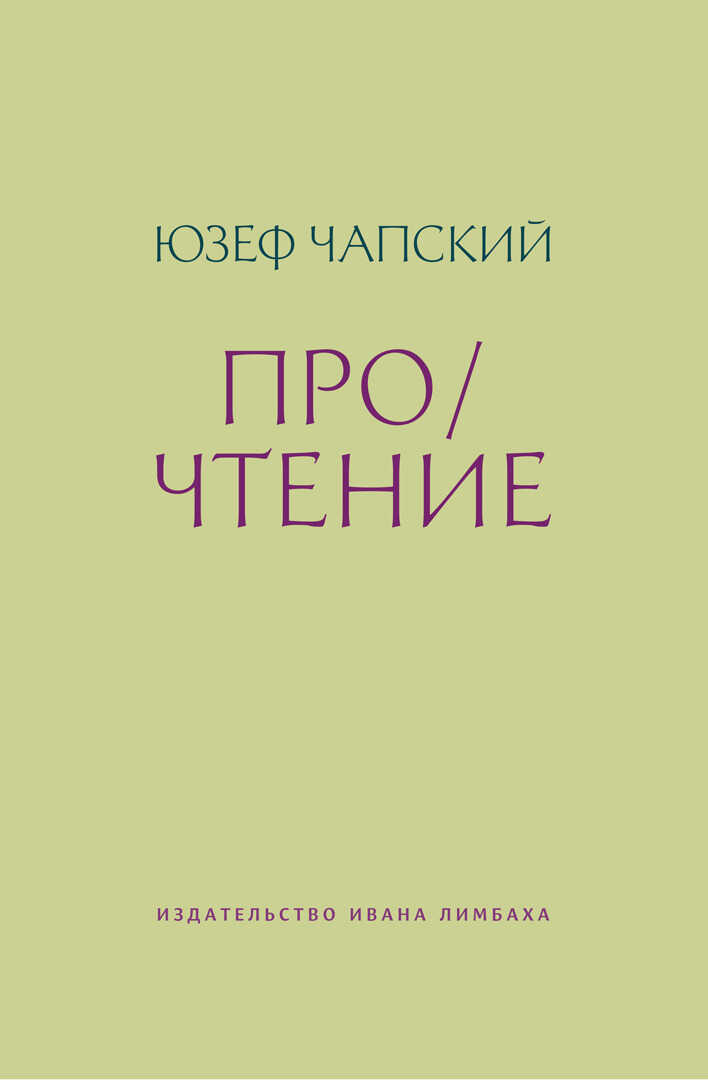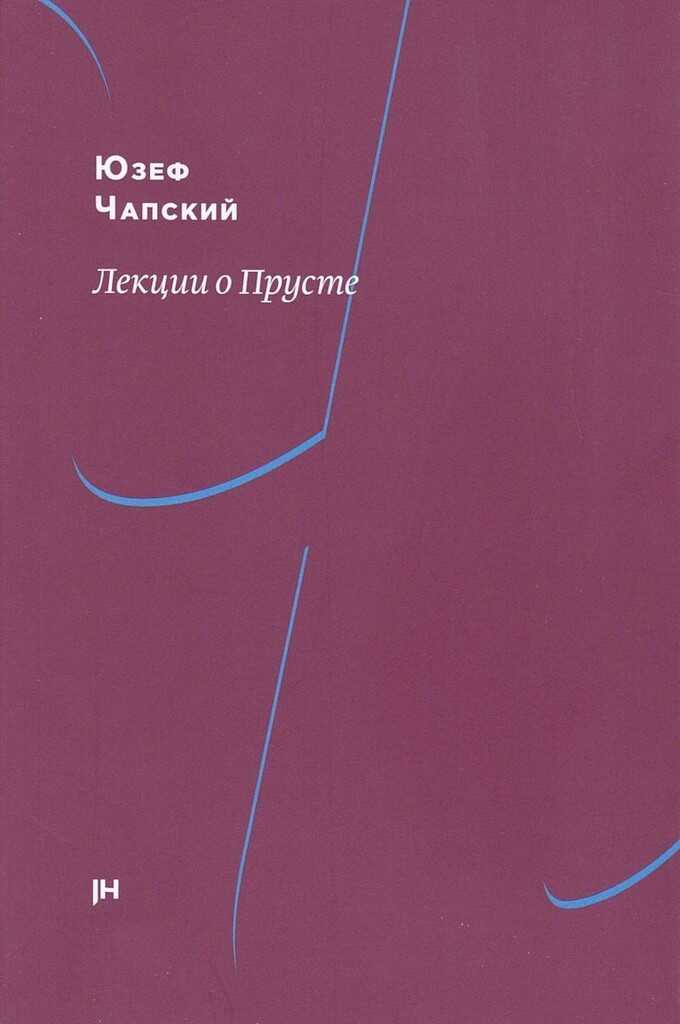Шрифт:
Закладка:
В творческом богатстве Ремизова я хотел бы еще выделить рассказы из гибнущего Петербурга. Есть стихотворение Мандельштама 1918 года. С тех далеких времен я запомнил пару строф из «Na strasznoj wysotie błużdajuszczij ogoń», где каждая строфа кончается: «Twoj brat Pietropol umirajet».
Это стихотворение поэта той же эпохи, того же поколения, что и Ремизов (о двух ссылках и смерти Мандельштама в изгнании ходят глухие слухи), могло бы служить эпиграфом к лучшим рассказам из «Взвихренной Руси» — похожий тон, до крайности болезненный и в то же время «сдержанный»… Рассказы об умирающем в голоде и нищете любимом городе, о хаосе, безнадежности, потерянности маленького человека и революции его глазами.
В подобной тональности написаны рассказы намного более поздние, о нищих попрошайках в метро, о детях-калеках, о мышах и крысах, о ране одиночестве в сверкающем Париже. И, кажется, не блистательный лауреат Нобелевской премии, тоже эмигрант Бунин, наследующий Толстому классик, сегодня принятый и издаваемый в Союзе, а Ремизов, пронесший в себе Россию с древних мифов до жестоких времен, в которые жил и творил, останется памятником драгоценнейшего металла великой эпохи русской литературы, уничтоженной или изгнанной революцией.
И когда с Ремизовым за несколько дней до смерти в квартире на rue Boileau случился последний сердечный приступ, он еще передавал свои сны на языке, понятном только самым близким, создавал слова — вербалятор[324].
И сегодня о смерти, бедной и прекрасной, знавшие его думают с волнением, но без горечи. Его состоявшейся жизни можно только позавидовать.
195819. Торжества и Норвид
Торжество по случаю годовщины Норвида[325]: само это словосочетание — парадокс, который я осознал, готовясь к выступлению.
Норвид терпеть не мог польских юбилеев и годовщин. Он противился стилю этих торжеств — а не думаю, чтобы с тех времен они сильно изменились, — видя в них сглаживание важных смыслов, важных отличий в воспоминаниях о нарумяненном засахаренном прошлом, не оживление, а усыхание общественного духа.
«Польские юбилейные торжества всегда попахивают тухлятиной, — пишет Норвид в письме к Северину Духиньскому за год до смерти, и продолжает: — Мне противны польские юбилеи: это всегда признак мертвости народа и общества».
Как в чем же суть, что нам сделать, чтобы это торжество по случаю годовщины не стало очередными похоронами Норвида. Не уверен, что механическое возведение в ранг четвертого пророка[326] поспособствует его явлению.
Давайте попробуем увидеть его таким, каким он был, не перекраивая его по нашим меркам. Норвид умер в этом доме, в последние семь лет своей жизни обретя приют у добрых сестер-викентианок, забытый, более того — отверженный обществом.
«Прометидионы, Зволоны и другие Андроны» — так говорил о Норвиде Клачко, считая, что самое место ему у бонифратров, то есть в сумасшедшем доме, а один из честных, верных друзей Норвида, лучший из людей, Богдан Залеский, сам поэт, писал о нем:
«Наш славный и чудаковатый Норвидек».
Норвид хотел быть шипом, пробуждающим нас ото сна, от культа штампа, а штампом было для него любое не прожитое, а лишь повторенное слово. Речь Норвида была жесткой, потому что каждая его фраза отражала личный опыт, одинокий, выстраданный до конца; слово всегда его обязывало.
Если мы хотим почтить Норвида, то есть использовать его так, как он того хотел, давайте читать его письма, которые, как он сам говорил, он всегда писал начерно, никогда не перечитывая — письма к друзьям, к богатым и бедным, к лидерам восстания, от Владислава Замойского или Мерославского до Герцена или Залеских, к нескольким преданным ему женщинам; в переписке, как нигде, видно, каким он был поэтом и человеком во всей полноте своего существования.
Представляя себе его живым, давайте подумаем, как бы мы сегодня его приняли, бедного, вечно просящего в долг и одновременного гордого, обличающего наши недостатки, без устали поучающего других, неуступчивого. Подумаем, как мы относимся к его братьям, живущим среди нас. Всегда говорят о трудности его стиля, но дело не только в стиле, нет стиля, нет формы, само строение которых, ритм, акценты не выражали бы той или иной сути человека. Дело в самой сущности Норвида.
Сладостность таких стихотворений Норвида, как «По тем просторам», «Над кровом Капулетти и Монтекки», — это сладостность, до которой нам позволено добраться, только если мы готовы прогрызть горькую скорлупу его иронии, его безжалостной суровости в суждениях о нас, поляках. Всю жизнь он отдаляется от общества, скорее, общество отдаляется от него, не печатая его статьи, воззвания, стихи, теряя его тексты в редакциях, — потому что этому обществу Норвид не подпевает и выступает против его догм.
Отличалась бы реакция нашего эмигрантского сообщества на живого Норвида сто лет спустя?
Эмигранты-современники Норвида сражались не только в двух восстаниях, в Венгерской революции, в кавказских походах или на полях Ломбардии, но и в легионах Дона Педро Португальского, в алжирском Иностранном легионе и во многих других военных кампаниях, не имеющих даже отдаленного отношения к Польше: среди них не только дуэли были в порядке вещей, порой случались и массовые поединки — это была эмиграция, о которой Словацкий писал, что она «добра, пока не дойдет до ножа». И этому сообществу Норвид имел смелость говорить: «Я не верю, что кровью можно добиться будущего (как это было девятнадцать веков подряд). Верю, что пóтом, но не кровью!! Это принципиально разные понятия, не предполагающие полезного сосуществования».
Он требует беречь кровь и жизни и с пророческим пылом повторяет, что «раз в пятнадцать лет будет резня (sic), резня младенцев, и будет разруха и пустота — так