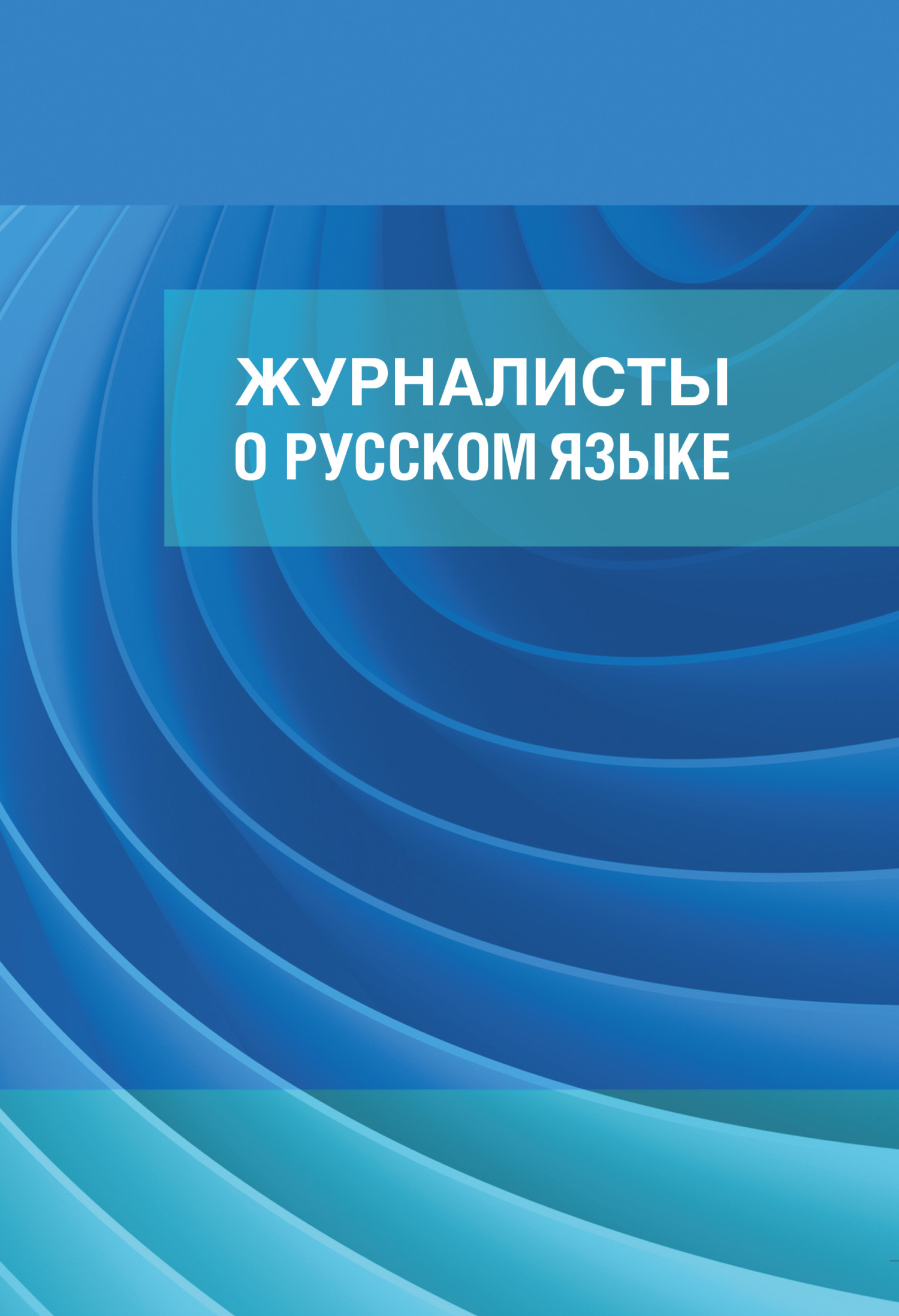Шрифт:
Закладка:
Человек просыпается неизвестно где – возможно, в больничной палате, но это неточно – и не помнит о себе вообще ничего. «Зовите меня Измаил», – предлагает он врачам, которых, за неимением других версий, нарекает Юрием Живаго и мадам Бовари. Человек мучительно вспоминает, что с ним произошло (какая-то авария? и, кажется, у него была любовь? и вправду ли его следует звать Измаилом?). Он описывает круги подле разгадки, подбираясь к ней все ближе и ближе, – ночным мотыльком, что кружит во тьме и обречен погибнуть в пламени. Тем временем так же опасливо и неуверенно вокруг человека, сужая кольцо, ходит еще один прекрасно осведомленный рассказчик, растерянный осиротевший подросток, каким был когда-то и сам человек.Жауме Кабре (р. 1947) – крупнейшая звезда каталонской литературы; его книги переведены на десятки языков, их тиражи превышают миллион экземпляров. Его новый роман «И нас пожирает пламя» (первый за десять лет после эпохального, удостоенного многочисленных премий «Я исповедуюсь») – тонкая притча, песнь во славу литературы и напряженный нуар: здесь будут внезапные озарения, безутешное горе, истинная нежность, убийство, амнезия, погони, таинственная роковая женщина, а также кабанье семейство, без которого этой истории не случилось бы вовсе.Впервые на русском!