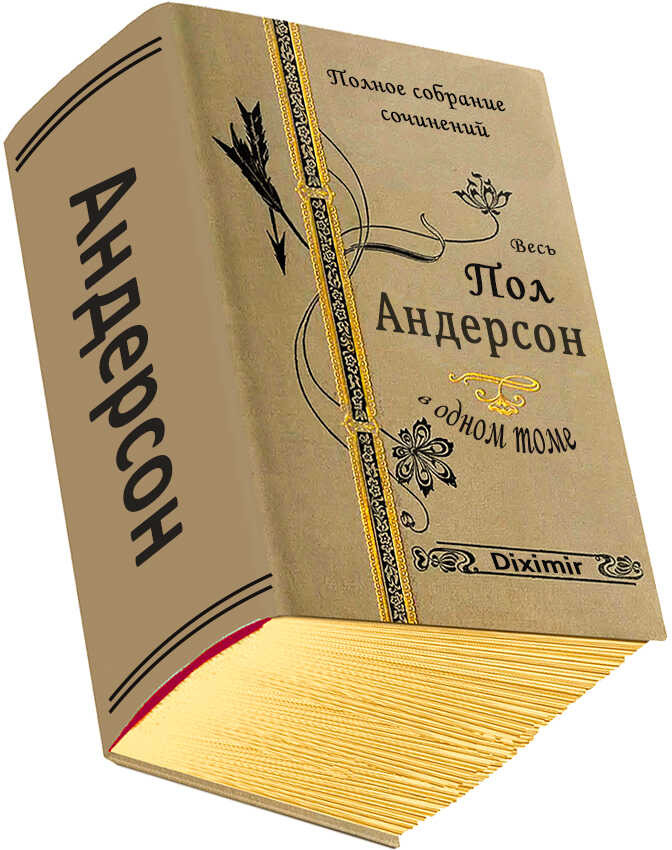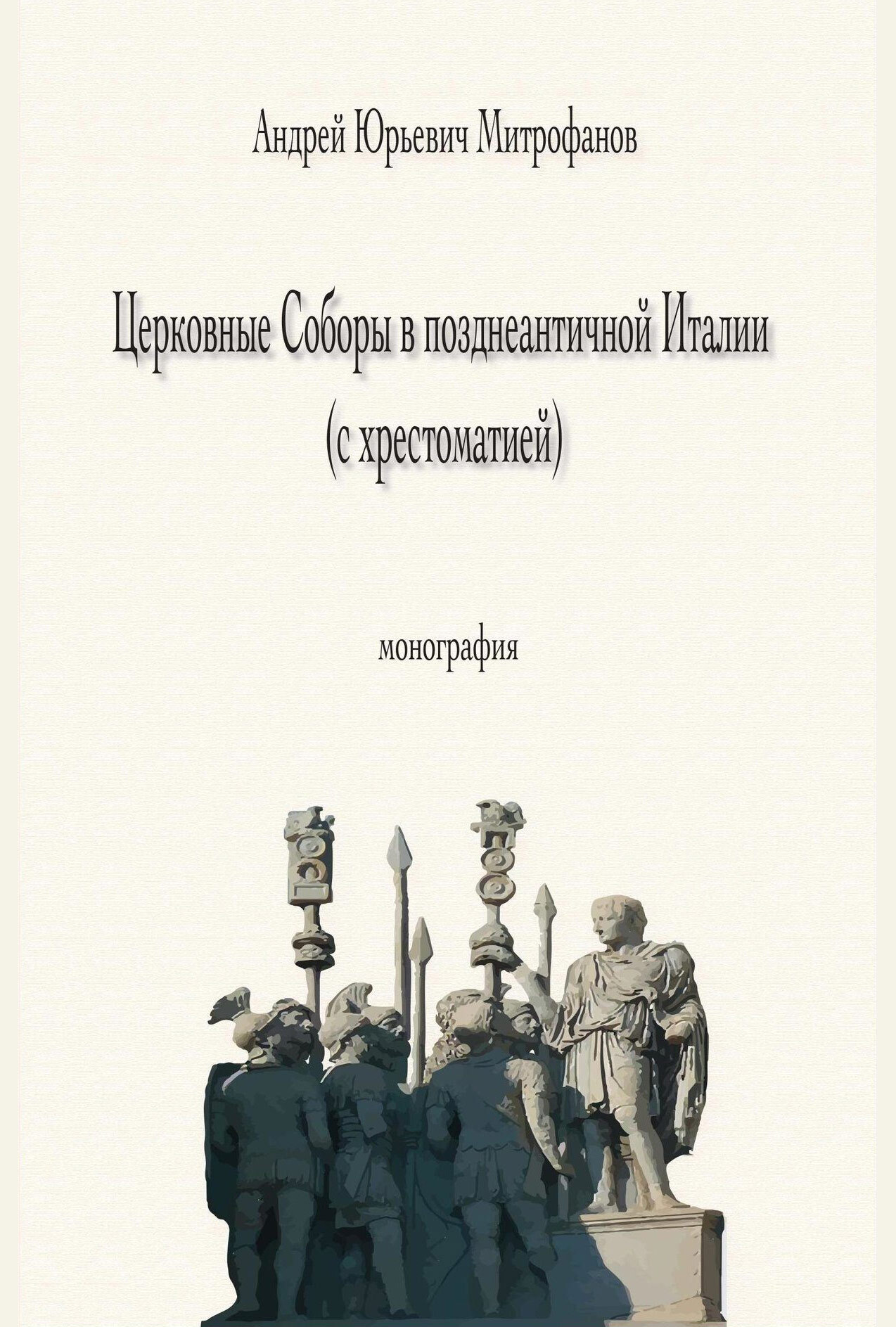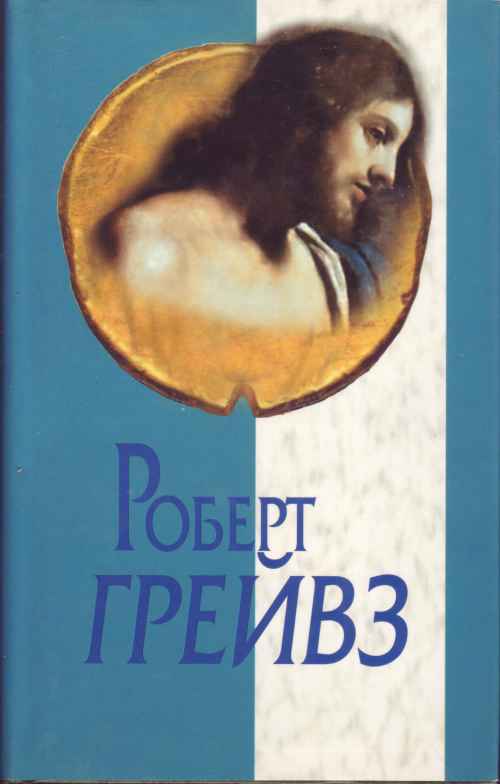Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Второй век до нашей эры. Кимврские племена столкнулись в ожесточенной битве с могучими римскими легионами. Эодан, сын вождя кимвров Боерика был пойман и продан в рабство, его малолетний сын убит, а красавица жена Викка взята в наложницы. Но кнуты и рабские цепи не смогли сломить дух этого огненного языческого гиганта, который сражался за свою свободу, чтобы спасти женщину, которую он любил. И именно эта борьба, в конце концов, сделала его легендой.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Пол Андерсон»: