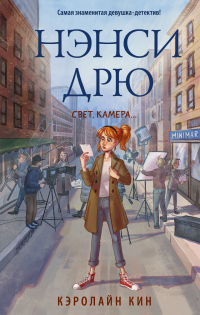Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Разглядывать в музее понравившуюся картину, читать интересную книжку, отвечать на сообщения друзей, пересматривать любимый фильм – все это становится невозможным, если ты – теряешь зрение. Когда очки, операция и даже нетрадиционные методы лечения не помогают, как не остаться наедине с болезнью и, несмотря на все трудности, продолжать жить и быть частью большого мира? Как общество относится к человеку, который не соответствует норме? Эта документальная история о потере и восстановлении зрения, преодолении жалости к себе, целительной силе аудиокниг, путешествиях автостопом, спокойном отношении к опечаткам, воле к жизни и неожиданных плюсах странного зрения.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Сергей Сергеевич Сдобнов»: