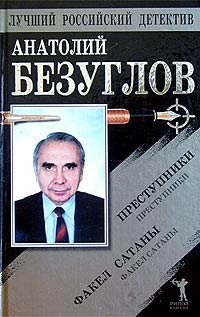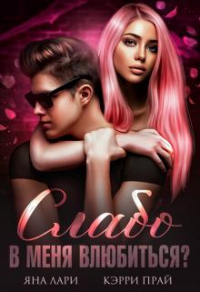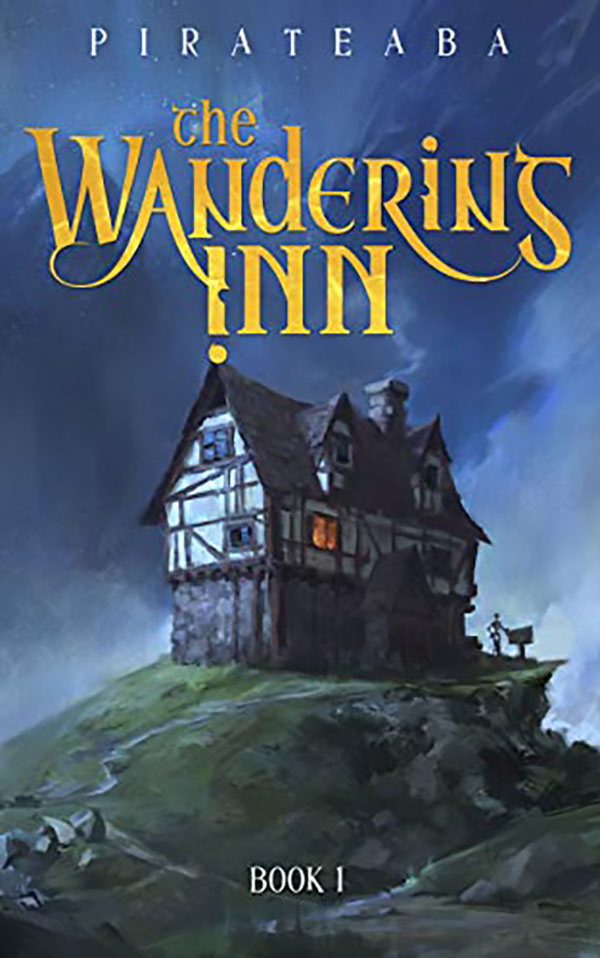Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Одна из трагичных страниц в истории России. В четвертой части романа "Император" повествуется о подготовке заговора против Императора Павла, его свержении и воцарении Александра Первого.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Сергей Анатольевич Шаповалов»: