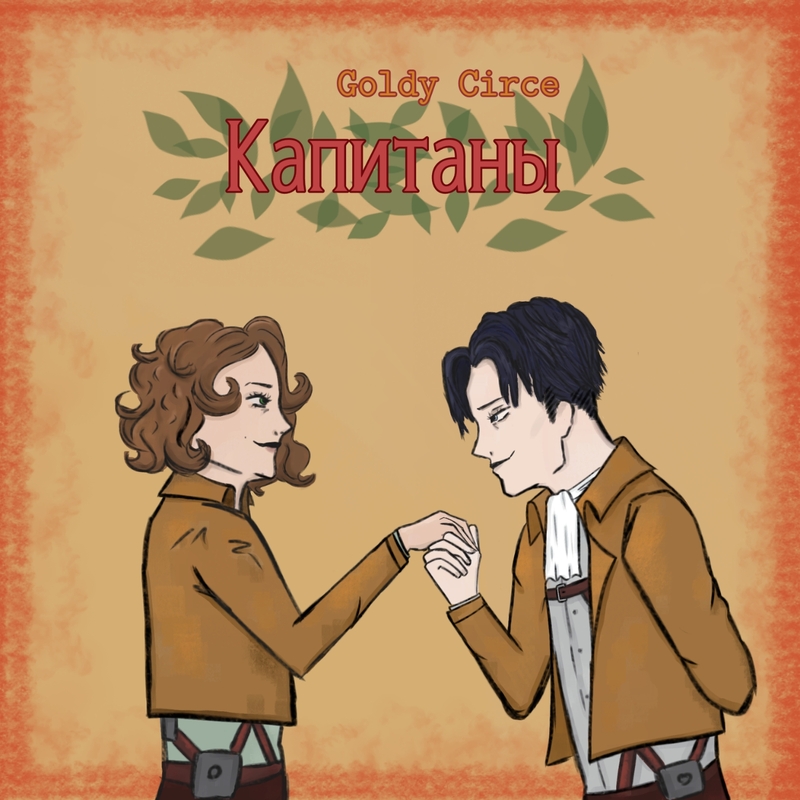Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Вступая в Разведку — корпус с самой колоссальной статистикой смертности — ни Леви, ни Кáта не предполагали, что найдут там свою любовь. Однако никогда нельзя забывать, что жизни с особой иронией нравится вносить коррективы.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Goldy Circe»: