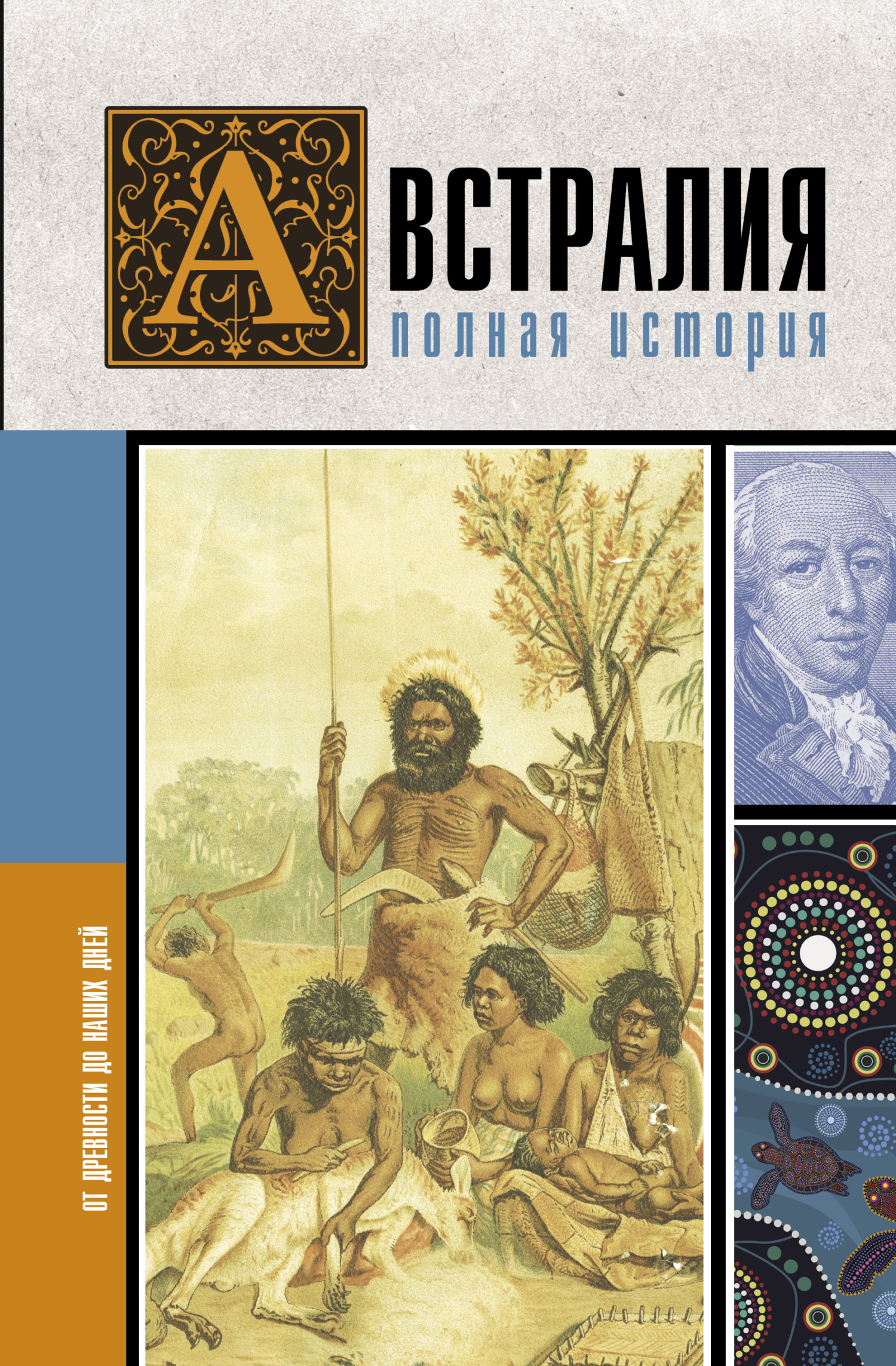Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Лирическое и эмоциональное повествование основано на реальных событиях 1950-х годов, когда обездоленных и осиротевших детей из Великобритании отправляли в эмиграцию в колонии, где им обещали райскую жизнь под теплым солнышком. Но действительность оказывается совсем иной: босые и полураздетые, в голоде и холоде, под гнетом жестоких надзирателей, воспитанники вынуждены с утра до ночи трудиться на ферме, превозмогая боль и обиды. И лишь горячие юные сердца помогут этим не знавшим родительской любви детям найти дорогу друг к другу.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Бронвен Пратли»: