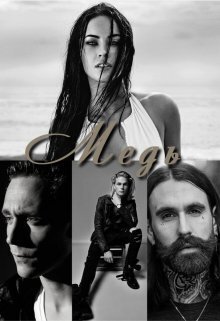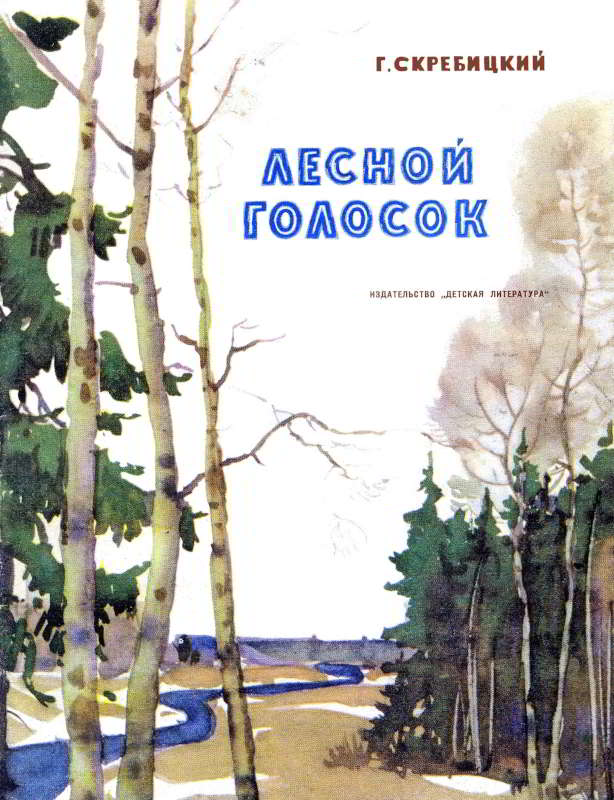Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Всего одна встреча при свете софитов и грохота клубной музыки. Всего один момент, когда их глаза пересеклись, притупляя всё вокруг. Всего один короткий разговор. Всего один поцелуй с кислотой конфетки. Всего одно колечко, стянутое с тонких женских пальцев. Пасмурный, жаркий, летний, яркий Санкт-Петербург приветствует в своих объятиях француженку, приехавшую сюда с подругой. И в первый же вечер Адалин Вуд встречается под сводами клуба с Ильей Стрелецким. Они оба не верят в судьбу, но эта встреча была предрешена задолго до решения Ады купить билеты "Париж-Санкт-Петербург".
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Лана Фиселлис»: