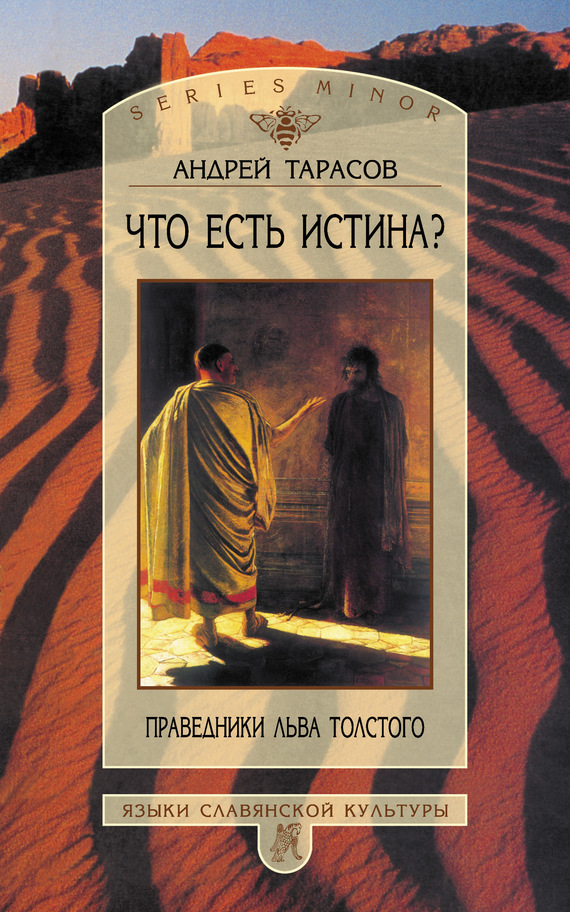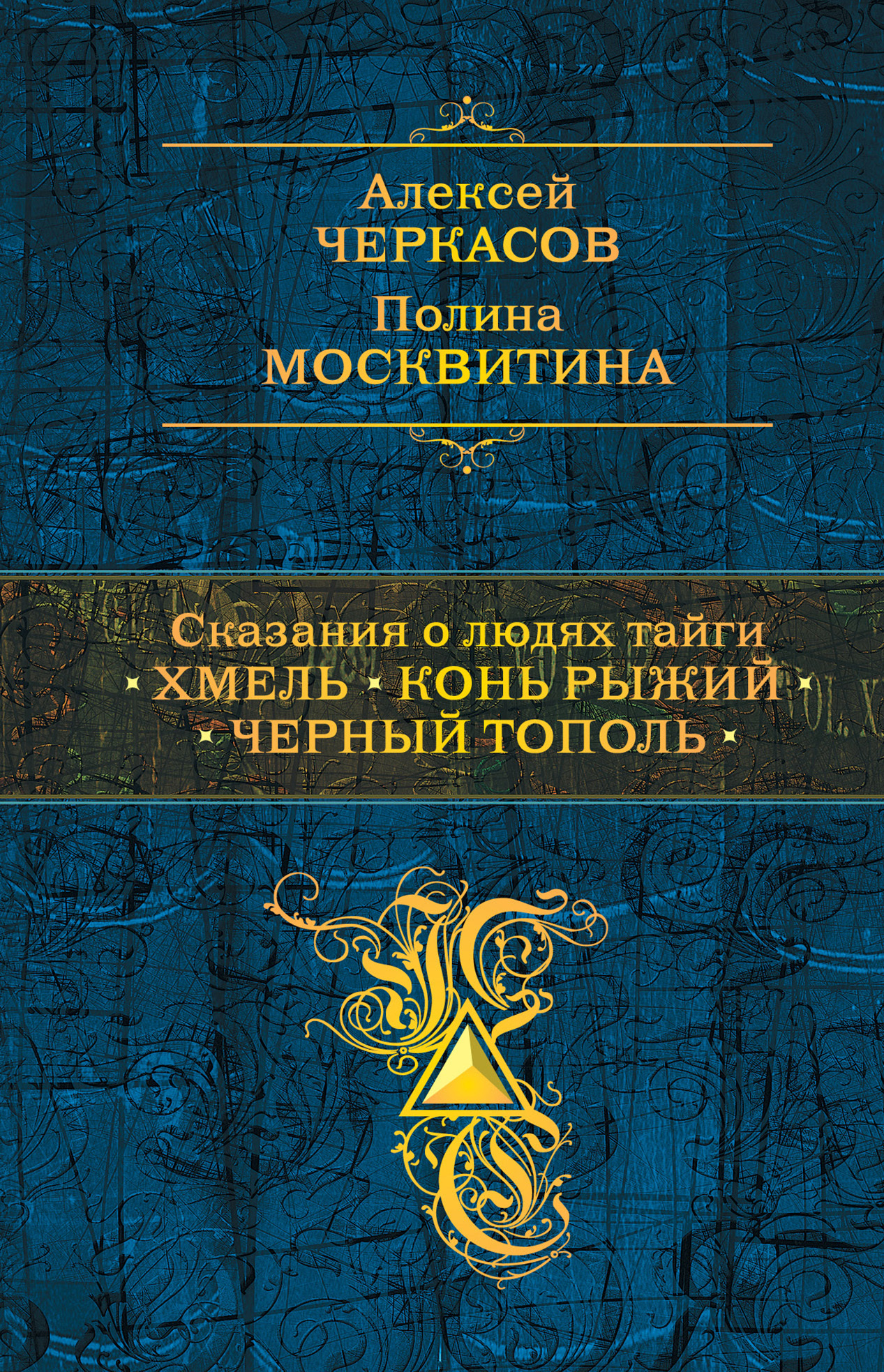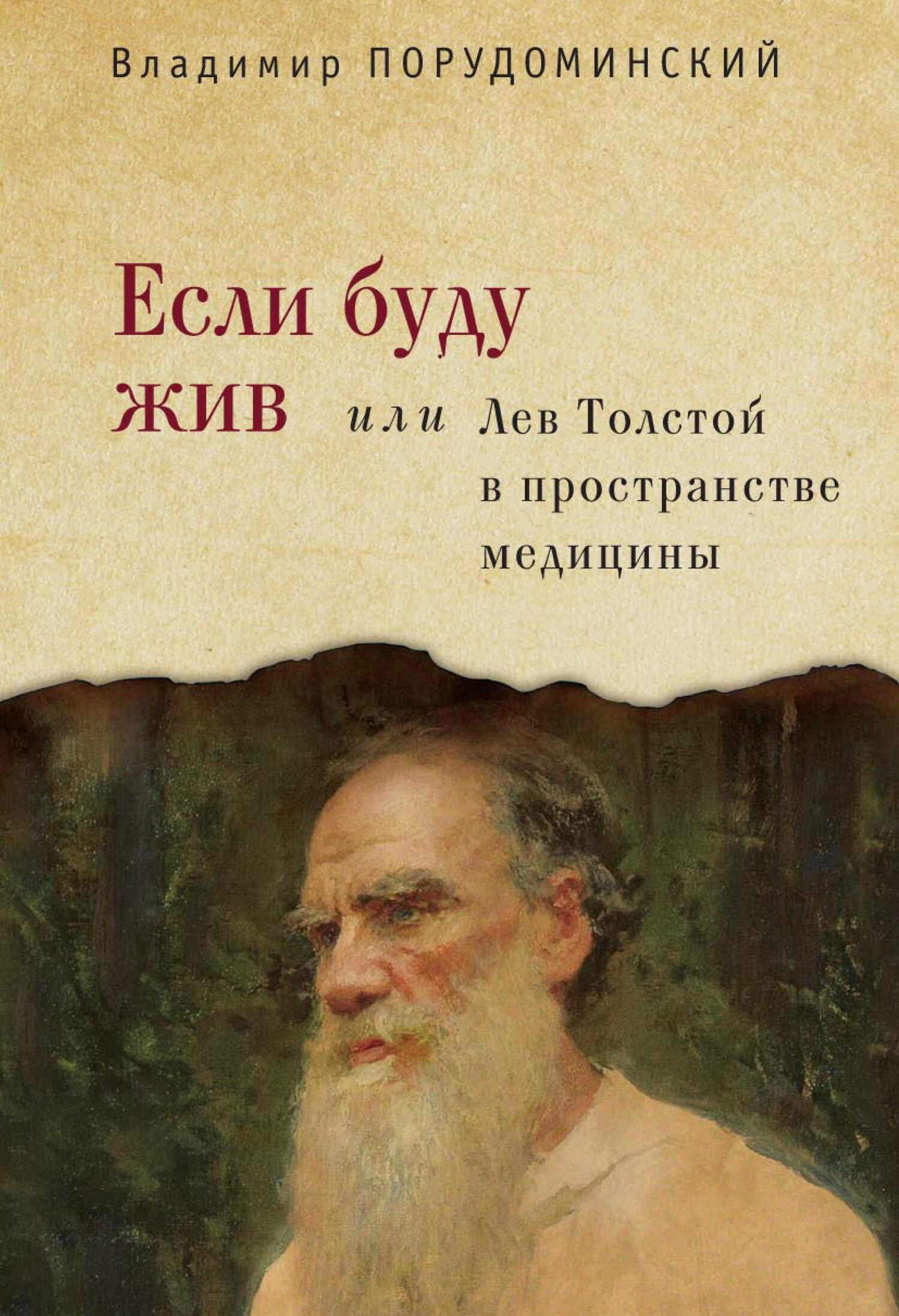Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Роман известного писателя, сценариста и кинорежиссера Гелия Рябова (1932–2015) рассказывает о революции в России, о гибели царской семьи, о любви и судьбе адмирала Колчака, о стране, окунувшейся в ужасы Гражданской войны, в которой есть только побежденные, независимо от того, чья сторона взяла верх. Это роман о преступлениях, о жизни и смерти, любви и счастье, а главное, о том, что побежденным оказался целый народ. Обложка на этот раз издательская.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Гелий Трофимович Рябов»: