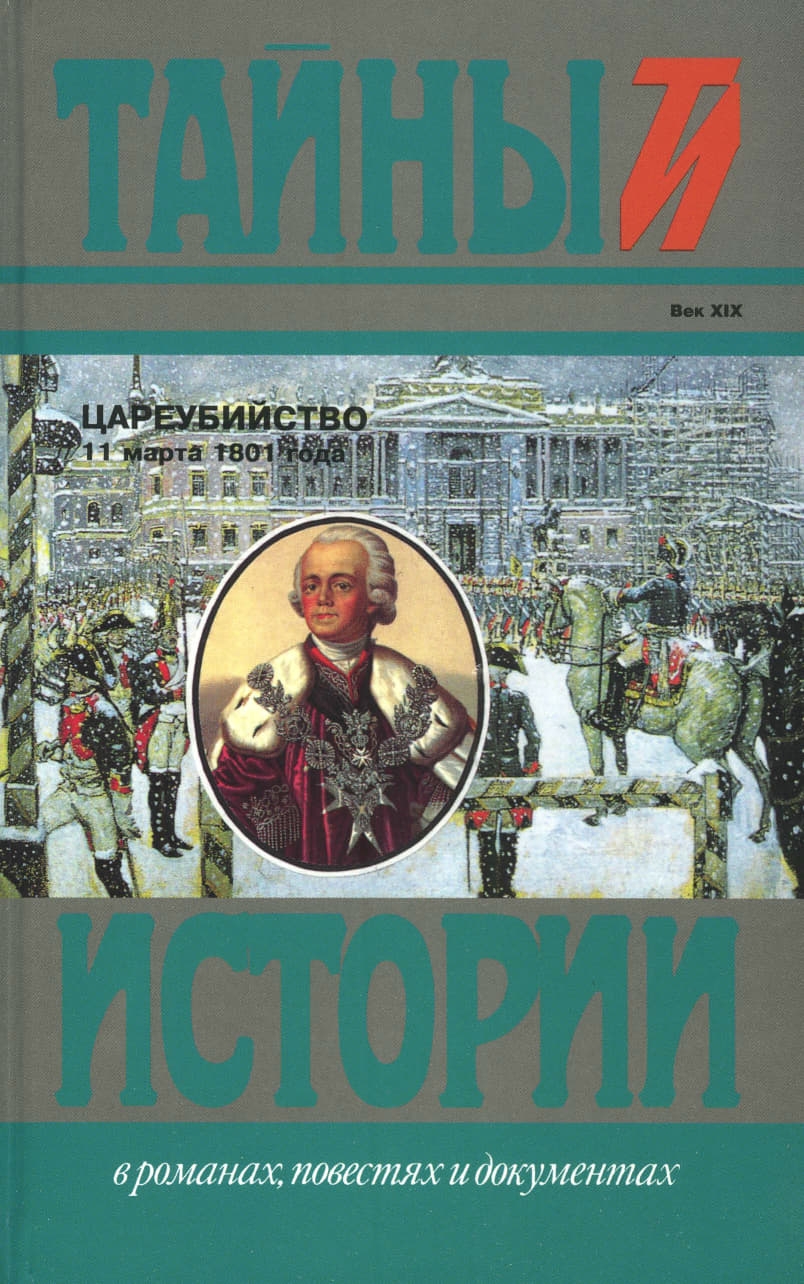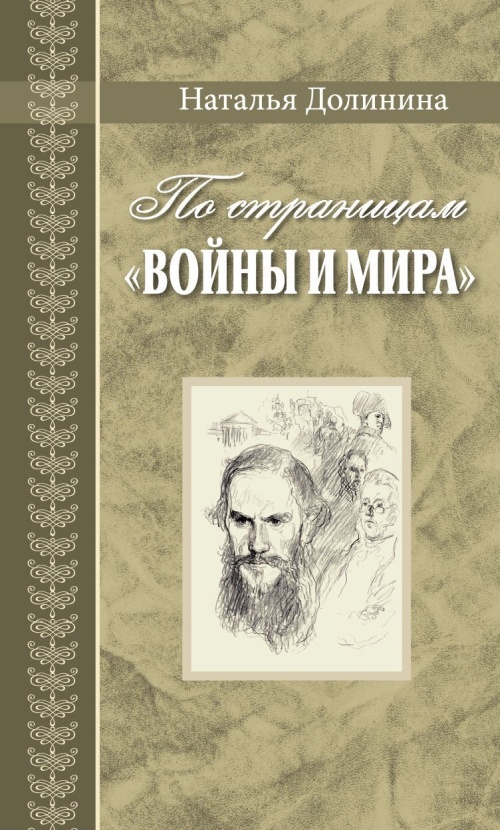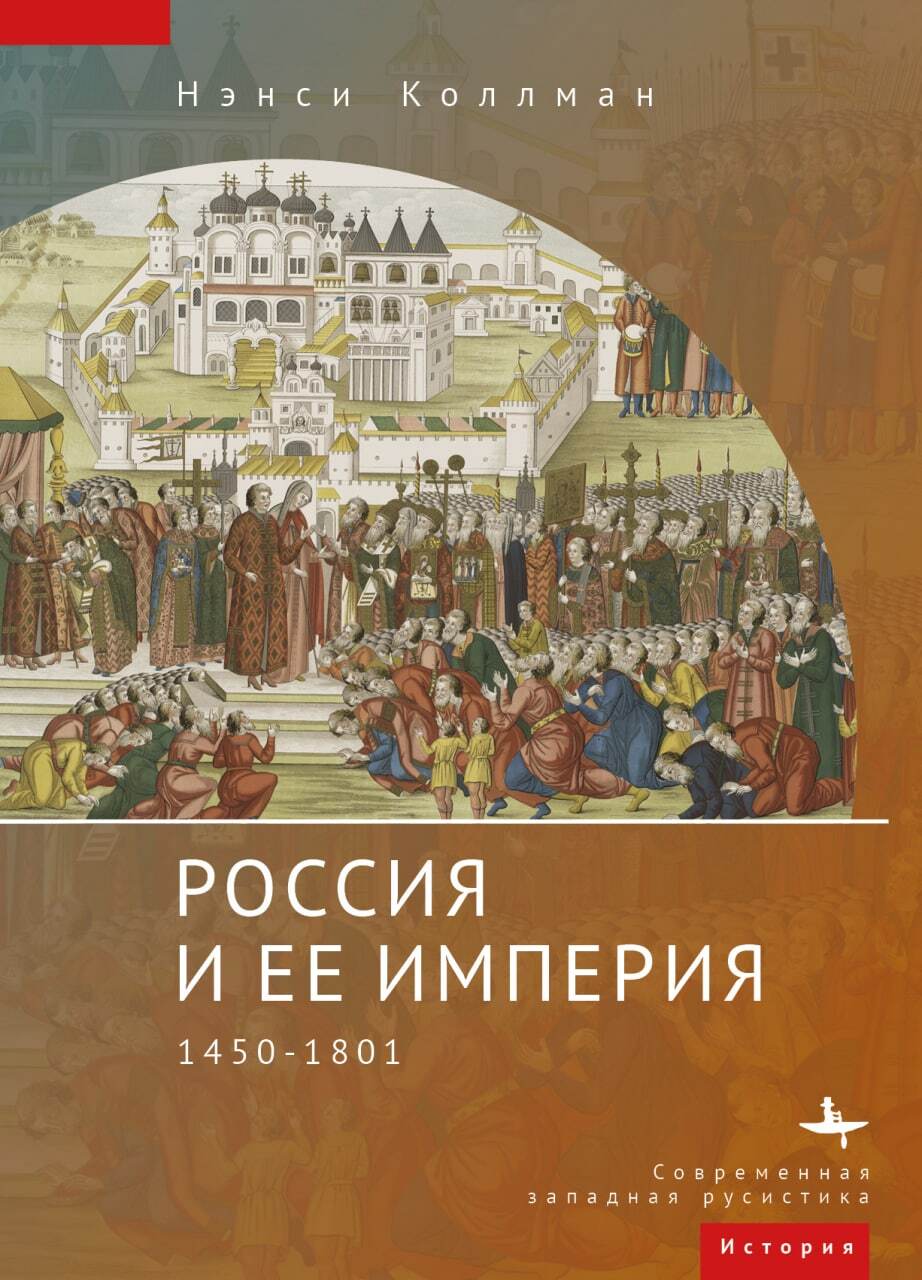Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Цель издания — восстановить картину кровавых событий и переворота 1801 года. О завершившемся трагической гибелью императора Павла I заговоре рассказывают его современники и непосредственные участники — блестящий офицер-конногвардеец, «рыцарь без страха и упрёка» Н. А. Саблуков, один из главных заговорщиков — граф Л. Л. Беннигсен, известный польский политический деятель князь Адам Чарторыйский и др.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Николай Александрович Саблуков»: