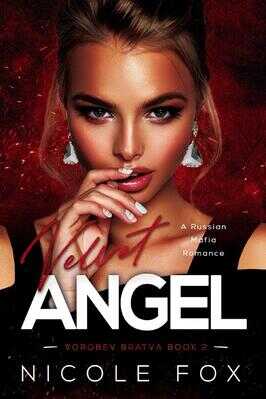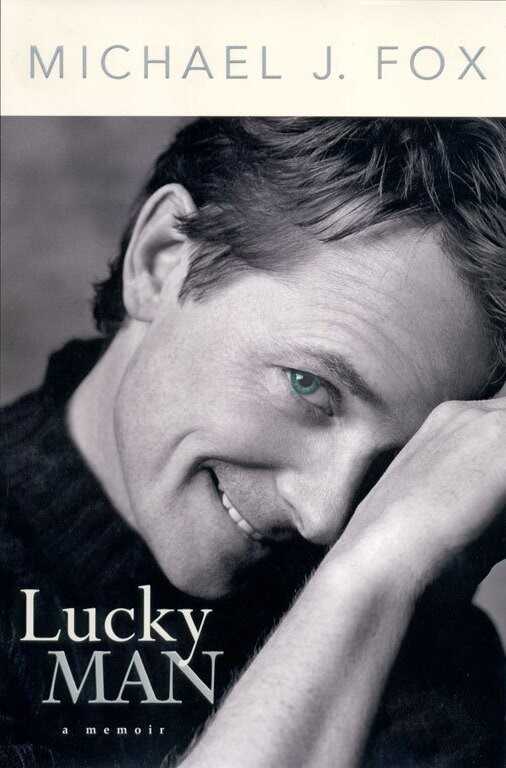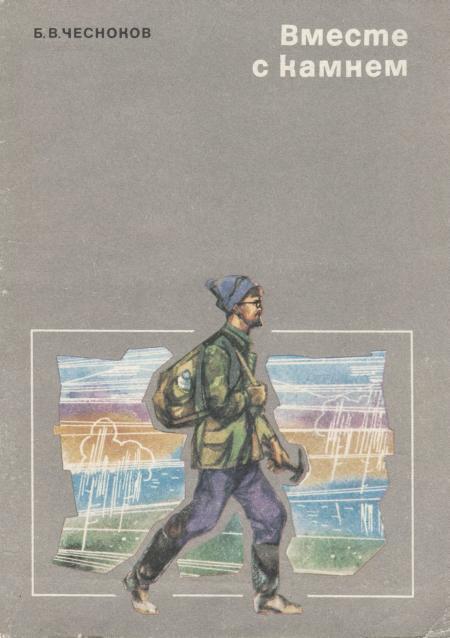Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Завтра первый день оставшейся части моей жизни. Я верну свою дочь на руки, и мы сможем начать все сначала. Спойлер: завтра никогда не наступит. В полночь в моё окно постучали. И кто должен ворваться, как не сам черт? Исаак Воробьев никогда не собирался меня отпускать. Он сделал меня своей фальшивой женой. Он сделал меня своей королевой Братвы. Теперь у него есть еще одна просьба… И на этот раз он не примет ответа «нет».
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Николь Фокс»: