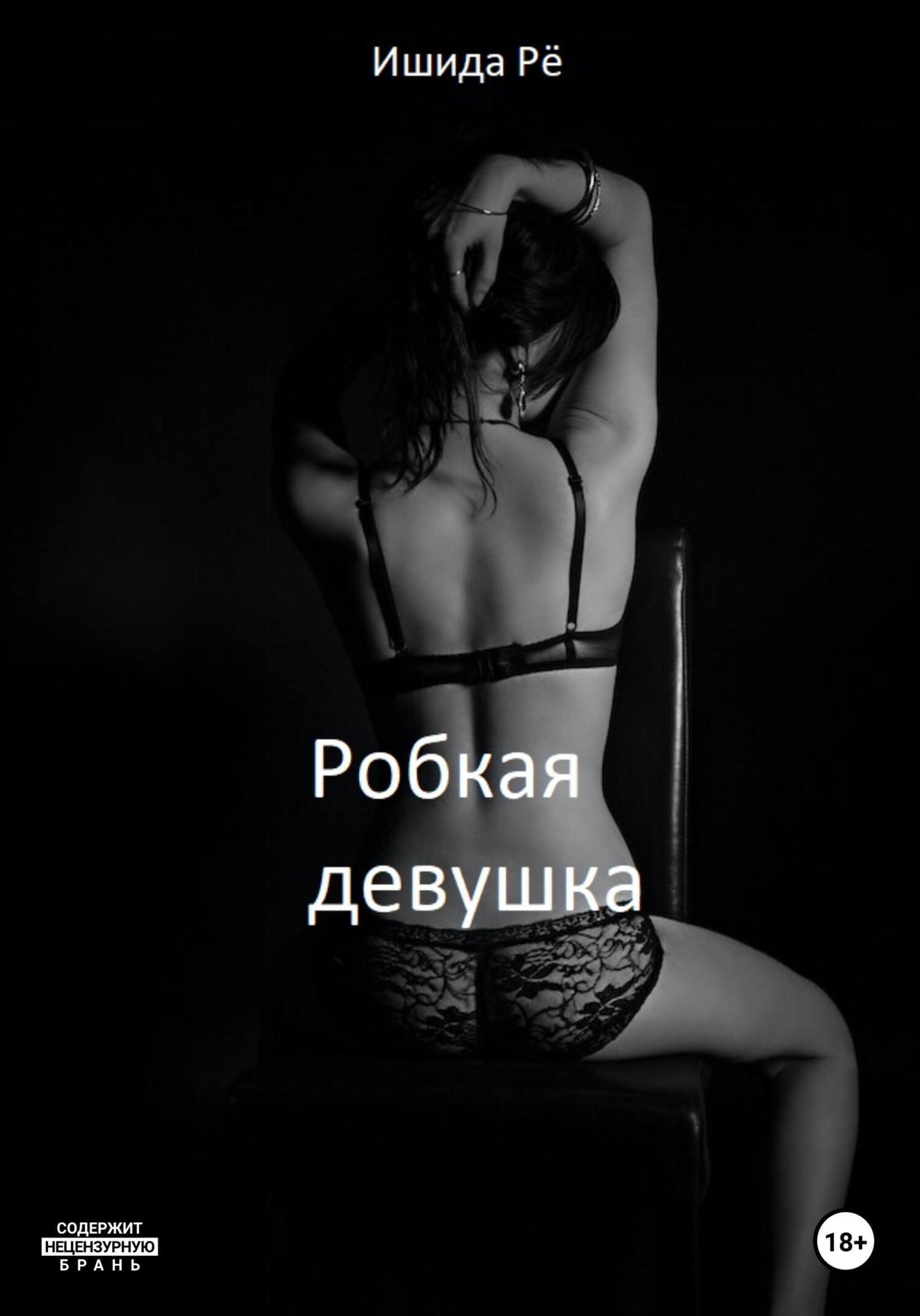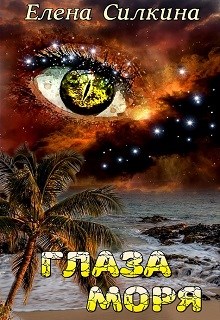Шрифт:
Закладка:
Вчера я носила роскошные платья, сегодня — траур. Вчера я блистала при дворе, сегодня я — всеми гонимая мать четверых малышей и с ужасом смотрю на долговые расписки. Вчера мной любовались, сегодня травят, и участь моя и детей предрешена. Сегодня я — безропотно сносящая грязные слухи, беззаветно влюбленная в покойного мужа нищенка. Но еще вчера я была той, кто однажды поднялся из безнадеги, и мне не нравятся ни долги, ни сплетни, ни муж, ни лживые кавалеры, ни змеи в шуршащих платьях, и вас удивит, господа, перемена в характере робкой пташки. Зрелая, умная, расчетливая героиня в теле многодетной фиалочки в долгах и шелках. Подгоревшая сторона французских булок, альтернативная Россия, друзья и враги, магия, быт, прогрессорство и расследование.