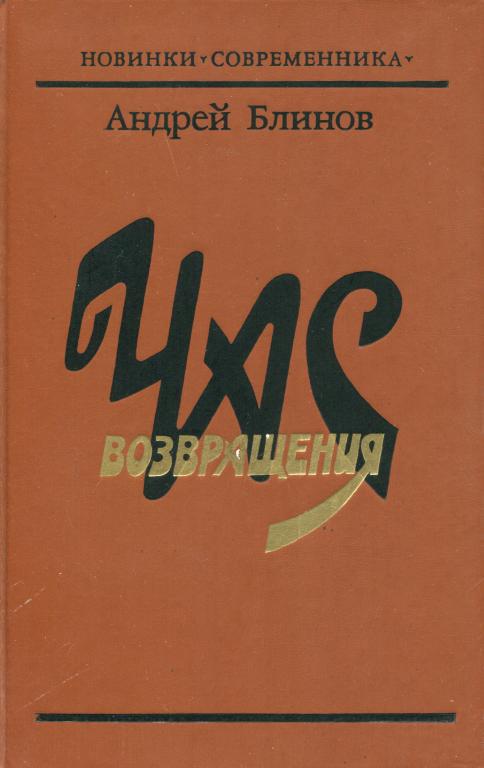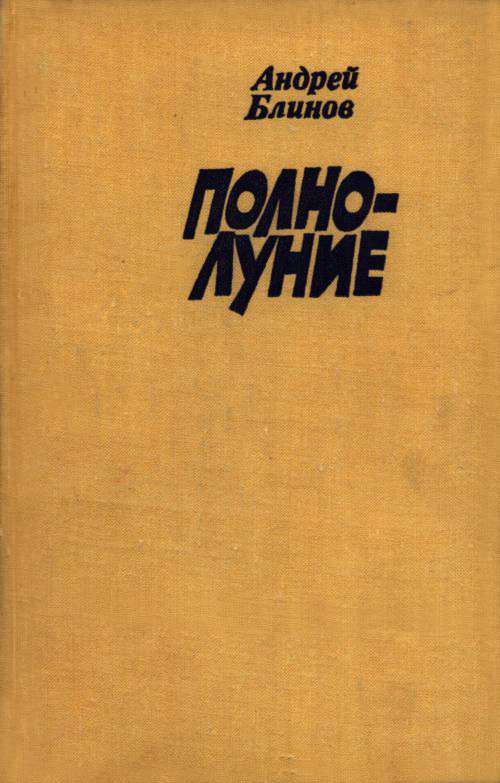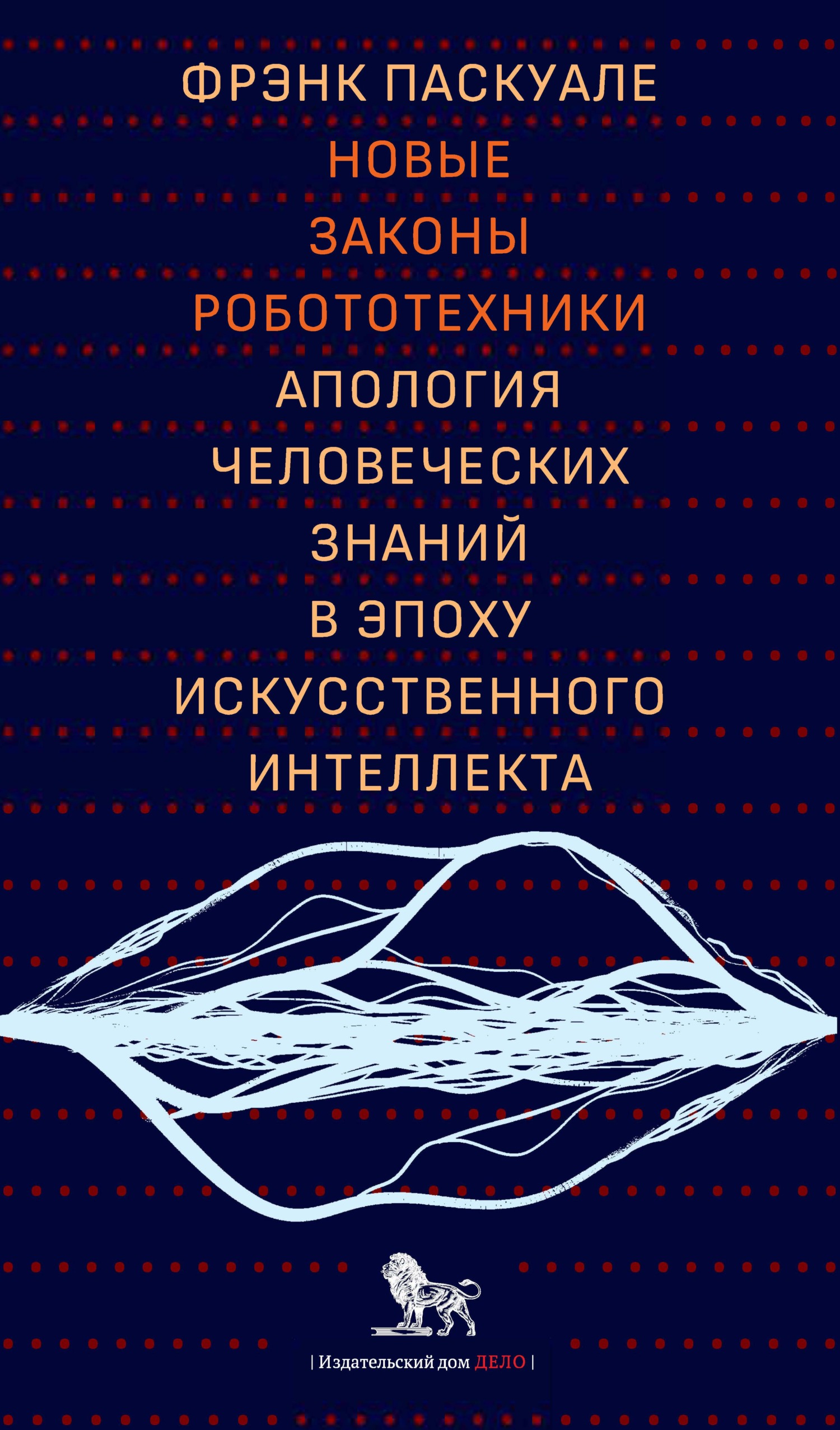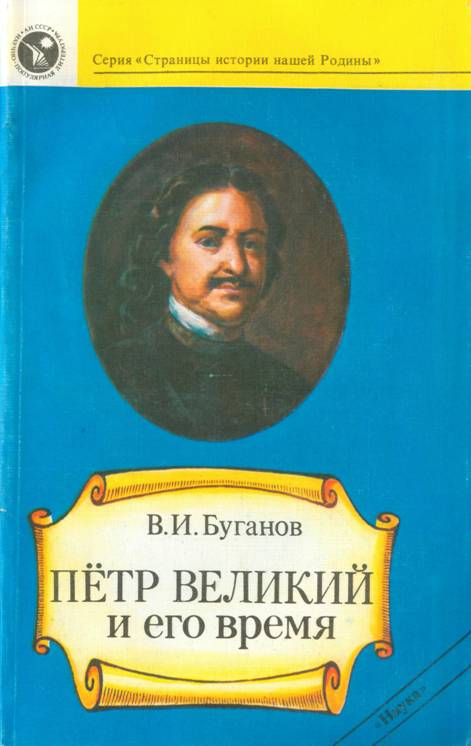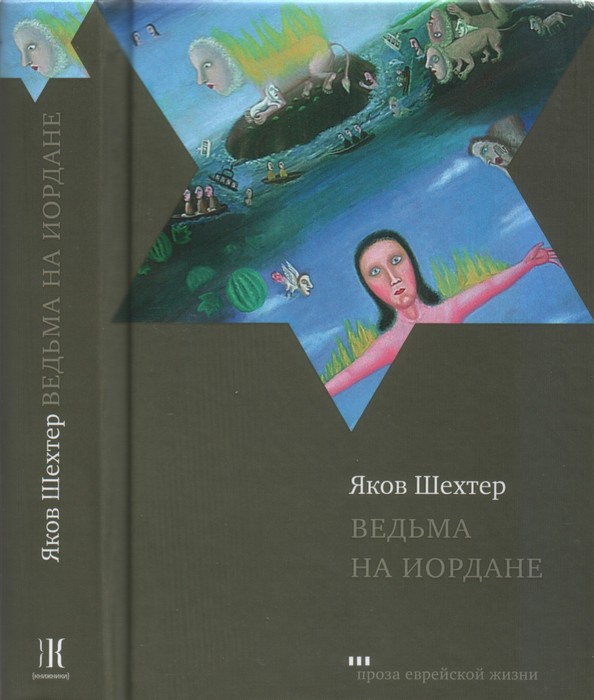Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Рассказы А. Блинова впервые собраны в отдельной книге. Написанные в разные годы, они крепко связаны единым стремлением писателя выявить богатый внутренний мир нашего современника, его чувства, психологию в решающих жизненных испытаниях, будь то выбор пути, любовь или борьба с трудностями.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Андрей Дмитриевич Блинов»: