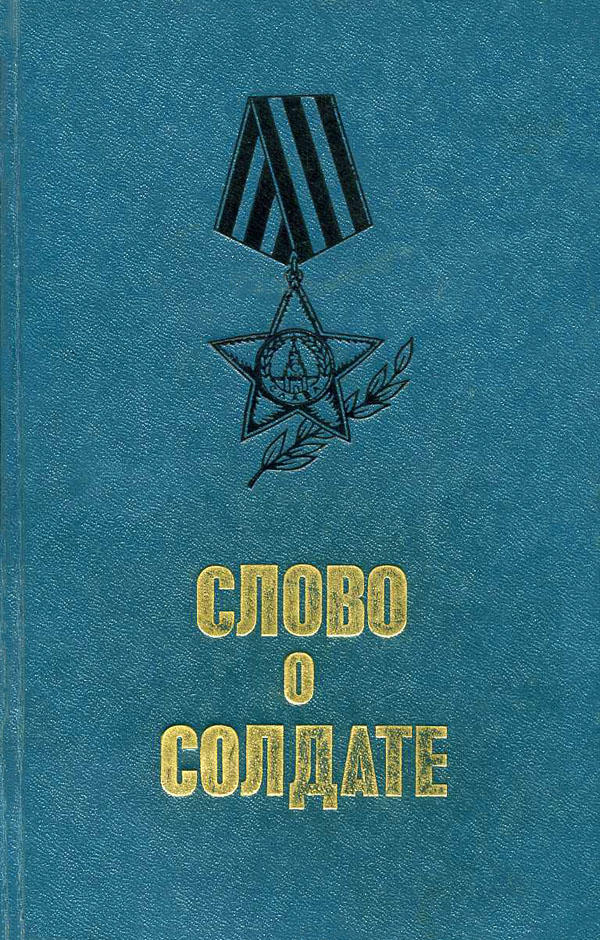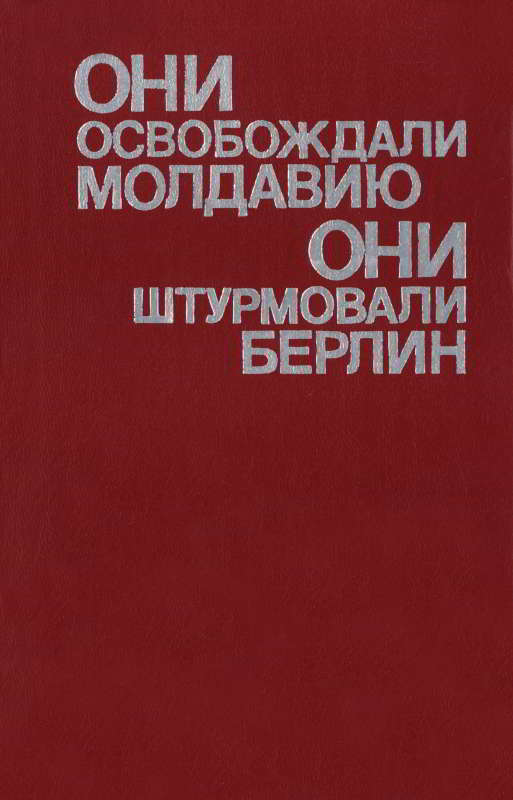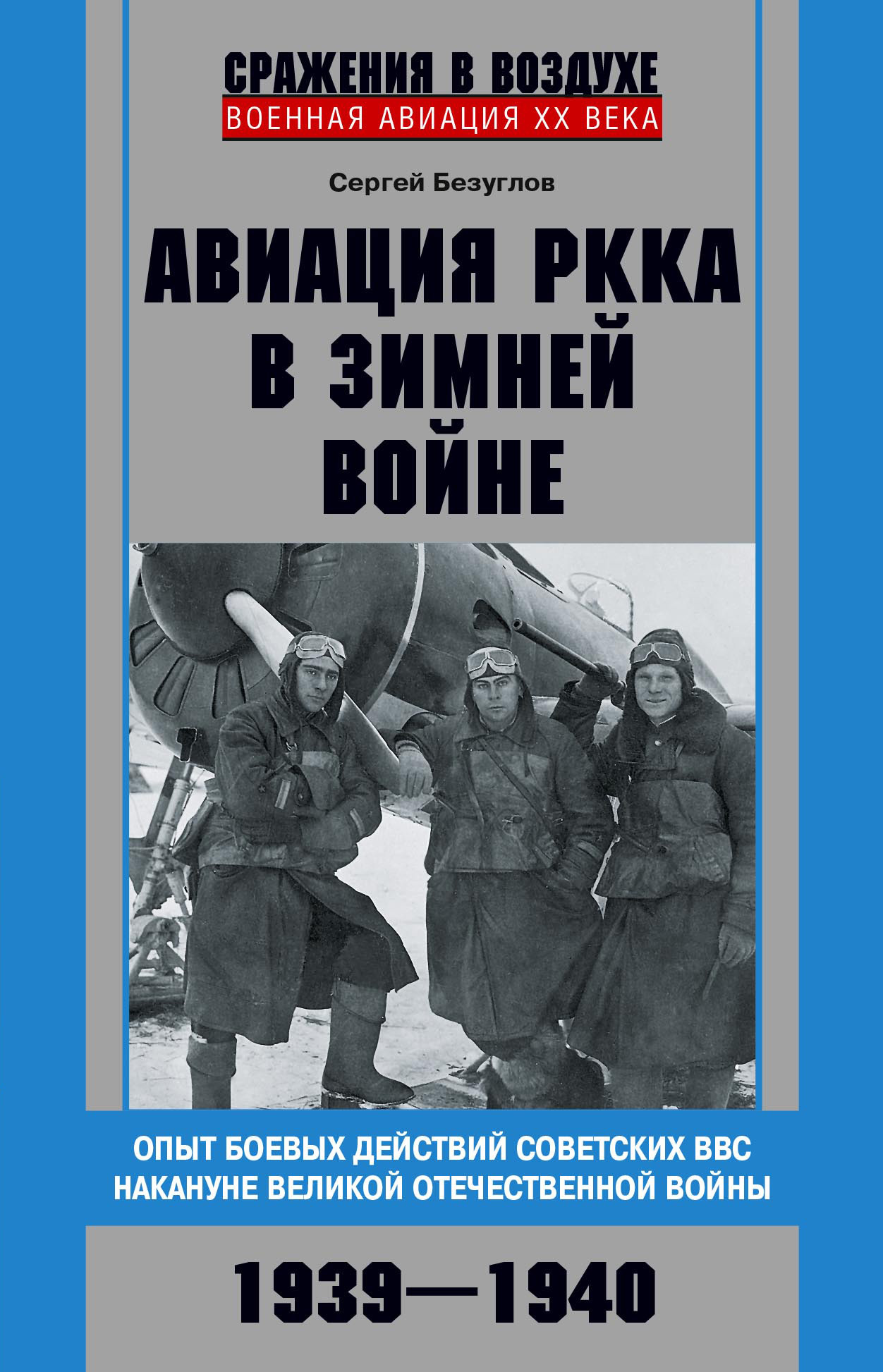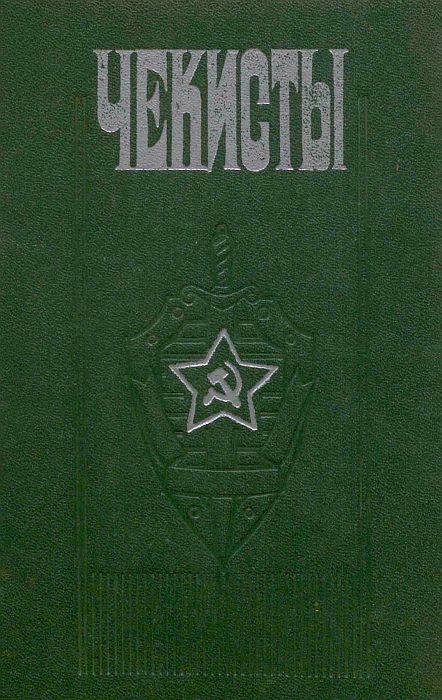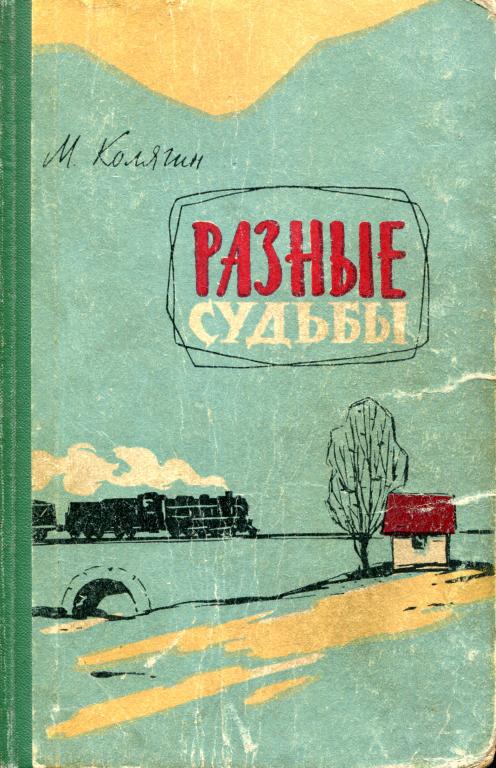Шрифт:
Закладка:
Слово о солдате - это поэтическая книга, посвященная подвигу советских солдат в Великой Отечественной войне. Автор книги, Вера Михайловна Инбер, - известная поэтесса, писательница и журналистка, которая сама пережила блокаду Ленинграда и работала на фронтовой газете. Она рассказывает о том, что видела своими глазами, о том, что слышала от своих товарищей, о том, что чувствовала в своем сердце. Она пишет о героизме и страданиях, о любви и ненависти, о вере и отчаянии, о жизни и смерти. Она пишет о солдатах разных национальностей, профессий и возрастов, которые объединились в борьбе за свободу и мир. Книга написана в высоком стиле, но также проникнута личным опытом и эмоциями автора. Это книга для тех, кто хочет почтить память о павших за Родину, и для тех, кто хочет узнать больше о войне через поэзию.
Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com.