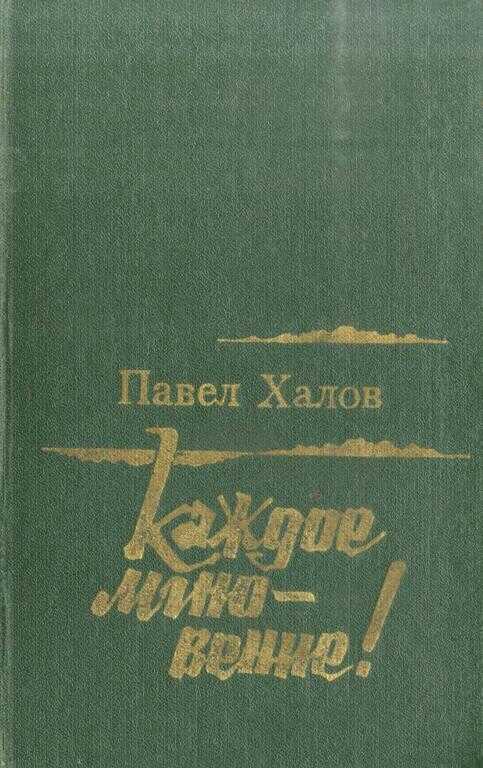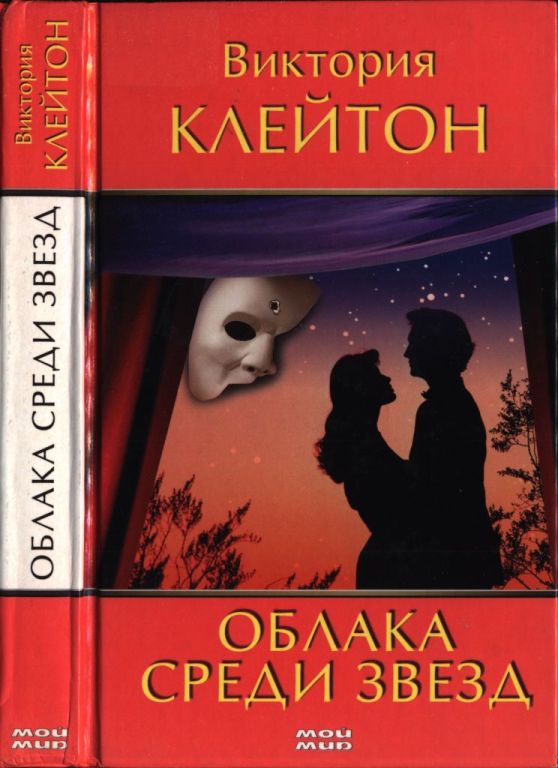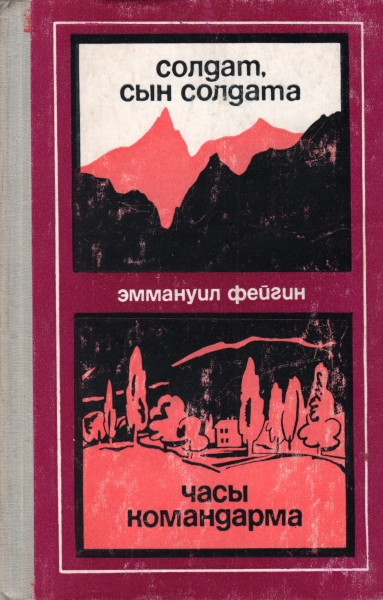Шрифт:
Закладка:
Свой невысокий рост Гребенников особенно ощущал, когда сталкивался рано утром на кухне или на лестнице с высоким, костистым, с прямыми, развернутыми плечами Ухтановым. Ухтанов был странно лыс — ото лба по темени до самого затылка шла лысина, а по бокам энергичного черепа росли длинные, тонкие, всегда будто влажные от пота черные волосы. А Валя — веселая, смешливая, ладненькая, с ямочками на перламутровых щеках. И глаза у нее были озорными, девичьими. Гребенников всегда словно натыкался на ее глаза. Они были везде. И она умела ими как-то так смотреть, точно выискивала что-то в лице того, на кого смотрела. Она ходила в белой трикотажной кофточке, не застегнув две верхние пуговки, и в узенькой и короткой юбке. Казалось, что она все время, пока Гребенников ее знал, носила только эти вещи. Волосы у Вали были роскошные — с золотинкой, тяжелые, они кудрявились на висках и на макушке и волнами стекали по плечам: не было таких приколок, чтобы удержать их тяжесть.
Возвращался Гребенников из училища поздно. И идти ему было далеко — почти через весь город. Автобусы ходили редко и неохотно, и никакой иной транспорт не связывал тогда центр этого приземистого сибирского города с окраиной. И вдруг он стал ловить себя на том, что ему хочется, чтобы дверь отворила Валя. Сначала просто что-то томило душу — нежное и светлое. Когда она открывала ему дверь, из темного коридора веяло ее душистым легким теплом, ее запахом. Запах этот стал ему мерещиться и на занятиях. И он, неизвестно когда научившийся к восемнадцати годам трезво анализировать обстоятельства и собственное состояние и свои чувства — понял: женщина эта нравится ему. Ухтанов тоже возвращался поздно. Еще позднее, чем Гребенников. Было слышно, как четко ступают по намерзшим изношенным деревянным ступеням лестницы его начищенные хромовые сапоги. И было слышно его шумное дыхание: шумно дышал Ухтанов, с каким-то даже скрипом. Но странное дело — даже шагнув с морозной лестницы в это душистое, сокрушительное тепло, всеми клетками тела своего ощущая близкое присутствие загадочного, таинственного, притягательного существа (из полумрака коридора светили ее испытующие насмешливо-доброжелательные глаза), Гребенников не терял головы. Только ледяной обруч стискивал горло. Он тихо благодарил за то, что она открыла ему, извинялся и проходил в свою комнату.
Ужин, если мать дежурила, стоял на плитке, — кастрюлька с чем-нибудь, укутанная одеялом, и записочка — корявым материнским почерком. Единственное, что было в жизни матери светлое — дети и муж. Два старших брата Гребенникова и отец — все трое железнодорожные рабочие — погибли на войне. Мать тоже прежде работала стрелочницей и путевой обходчицей. Когда Гребенникову вспоминалось детство, перед его мысленным взором представала будка путевых обходчиков. «54-й километр» — было написано на дощечке, прибитой над крошечным в четыре квадратных стеклышка окошечком; тропинка через овраг — на косогор, потом через пустырь к дороге, идущей через поселок и дальше в незнаемый еще город. Школа была в поселке. Была еще какая-то странная память — память запаха — всегда пахло плотным паровозным дымом, смазкой, дегтем — от шпал, от рассыпанного шлака, память звуков — тяжкий грохот пролетающих мимо поездов — на восток и на запад, упругая волна воздуха, разорванного тяжелым стремительным телом состава, она всякий раз до основания потрясала вросшую в землю будку, чуть не выдавливала стекла. Ночью, не просыпаясь, он узнавал, что это за поезд — товарный с грузом или порожняк, курьерский ли — по пассажирским поездам он знал время — легкий ли и неспешный, вразнобой позвякивающий на ходу, пригородный поезд.
Потом мать заболела и не смогла более ходить по путям. Семье погибшего на войне дали вот эту комнату, а мать устроили на работу сторожем на склад.
Когда-то в ухтановских двух комнатах жила огромная семья — одни взрослые, эвакуированные откуда-то из-под Минска и прижившиеся в Сибири. Потом они съехали, а Ухтановы уже поселились вместо них. Пришел грузовик, набитый вещами, мебелью. Ладные, хорошо одетые солдаты за полчаса перетаскали все на второй этаж. А уж потом на «джипе» приехали сами жильцы — вот этот демобилизованный капитан. Он сидел рядом с водителем, сзади сидела молодая изящная женщина, несмотря на теплую погоду — все это происходило в сентябре — в пуховом платке, с ребенком на руках. Гребенников стоял на лестничной площадке, смотрел, как поднимаются новые жильцы по лестнице. Валя шла впереди с ребенком — Алешкой, Ухтанов в расстегнутом пальто, в фуражке, сдвинутой на затылок, — сзади. Валя задержалась, перед Гребенниковым.
— Здравствуйте, — сказала она нараспев.
— Здравствуйте, — глухо и угрюмо, ответил Гребенников, не отводя глаз.
Ухтанов вынужден был остановиться тоже. Это ему не понравилось, да и неловко ему было стоять за спиной жены — двумя ступеньками ниже. Он легонько подтолкнул ее, и она, чуть нагнув голову — Гребенников увидел под платком огромный узел тяжелых золотистых волос на затылке — пошла в квартиру. Ухтанов только покосился, чуть заметно кивнув. Он держался неестественно прямо. Только потом уже Гребенников узнал, что эта напряженная выпрямленность бывшего капитана — вынужденная, он был ранен в позвоночник. Позвоночник зажил, но два позвонка потеряли подвижность. Не неприязнь или нелюбовь какая-то к Ухтанову овладела им тотчас и навсегда, а отчуждение. Гребенников из-за своего небольшого роста, из-за того, что так трудно он жил всегда, сколько, себя помнил, из-за того, что был всегда хотя и, чисто, но тускло, в перешитое из того, что осталось от старших братьев и отца, в материно даже, одет — болезненно относился ко всякому проявлению высокомерия или равнодушия к себе. И хотя умел скрыть свое состояние, переживал болезненно, и всякий, в ком он мог увидеть такое отношение к себе, оказывался для него за той чертой, за которой человек переставал существовать для него вообще.
Иногда проходя к себе мимо открытой двери в комнату Ухтановых, Гребенников видел их обстановку: в оранжевом мягком свете торшера — тогда это мог быть только трофейный — ковры, кресла, диван непривычно низкий, ничем не накрытый смоляно-коричневый стол, гнутые стулья. И с тех как как поселились Ухтановы, Гребенниковы перестали пользоваться кухней. Во-первых, там всегда суетилась неспешно Валя — то готовила ребенку, то мужу, то просто сидела и читала что-то, пока Алешка спал. Так и остался стоять там гребенниковский замызганный еще из железнодорожной будки кухонный столик-тумбочка, с измочаленной проскобленной чуть не до дыр столешницей, а рядом с ним появился необычный и непривычный тоже кухонный набор столиков, полочек, ящиков, коробочек с иностранными надписями — соль, кофе, сахар, крупа, масло… Целые грозди деревянных инструментов — толкушки, раскатки, поварешки, черпачки, ковшики — всего этого Гребенниковым никогда не требовалось. Толченку мать делала при помощи порожней бутылки, редкие пельмени — граненым стаканом,