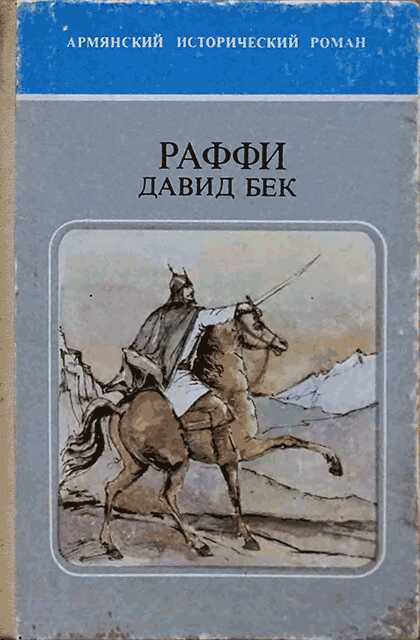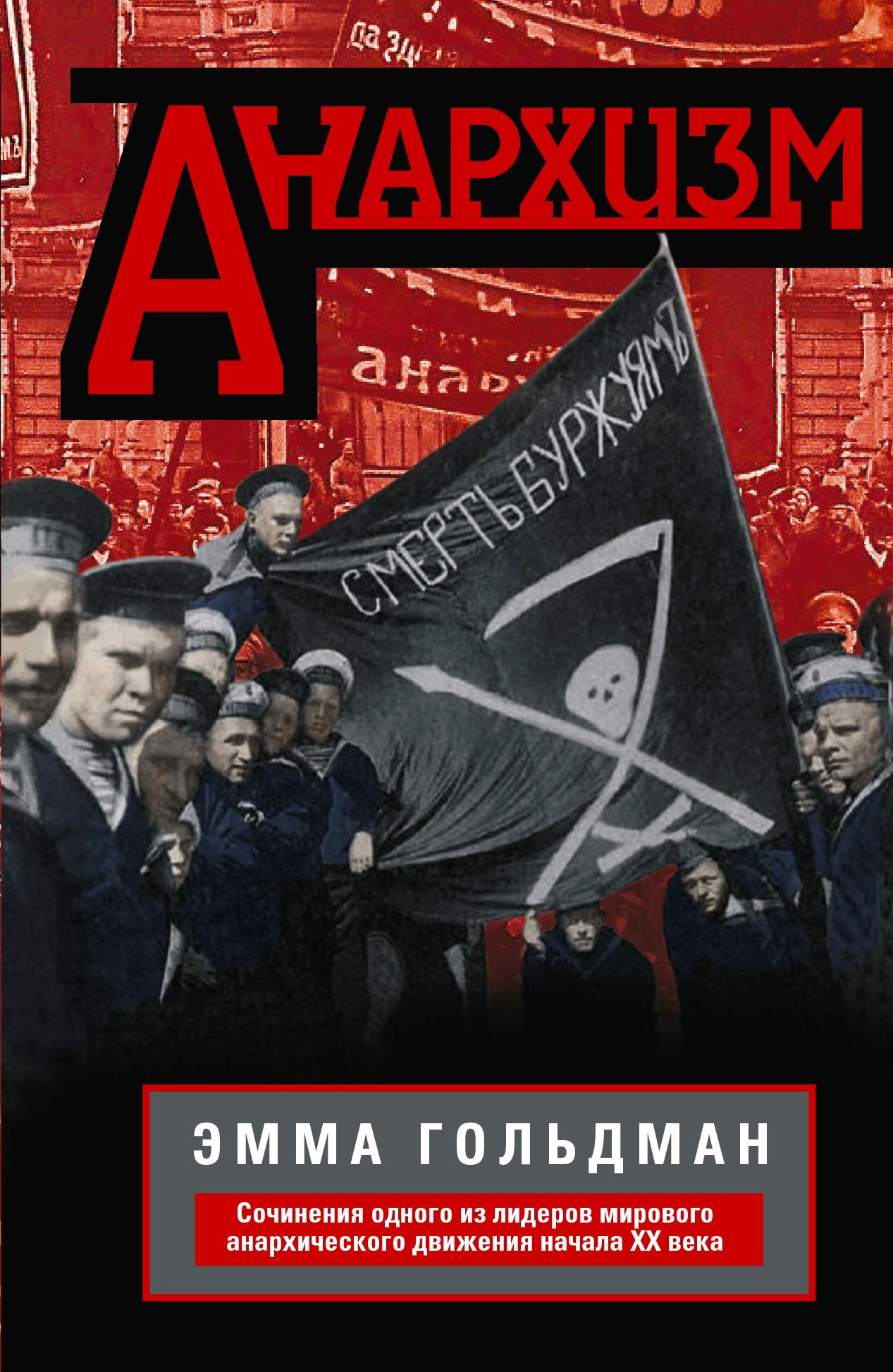Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В историческом романе классика армянской литературы Раффи описываются события начала XVIII века в Армении, освободительные войны Давида Бека. -
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Раффи»: