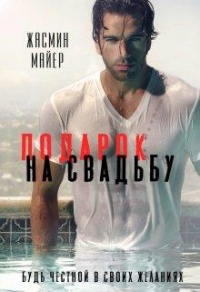Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Александр Староверов, автор романа “То, что вы хотели”, – личность загадочная. Несмотря на то, что он написал уже несколько книг (“Баблия. Книга о бабле и Боге”, “РодиНАрод”, “Жизнь: вид сбоку” и другие), известно о нем очень немного. Родился в Москве, закончил Московский авиационный технологический институт, занимался бизнесом… Он не любит распространяться о себе, полагая, возможно, что откровеннее всего рассказывают о нем его произведения. “То, что вы хотели” – роман более чем злободневный. Иван Градов, главный его герой – человек величайшей честности, никогда не лгущий своим близким, – создал компьютерную программу, извлекающую на свет божий все самые сокровенные желания пользователей. Популярность ее во всем мире очень велика, Иван не знает, куда девать деньги, все вокруг счастливы, потому что точно понимают, чего хотят, а это здорово упрощает жизнь. Но действительно ли все так хорошо? И не станет ли изобретение талантливого айтишника самой страшной угрозой для человечества? Тем более что интерес к нему проявляют все секретные службы мира…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Александр Староверов»: