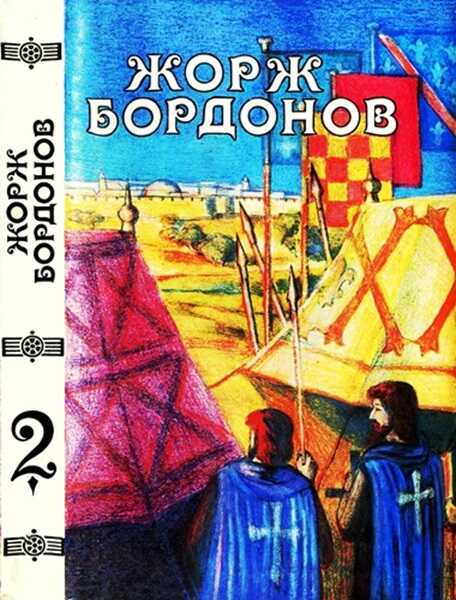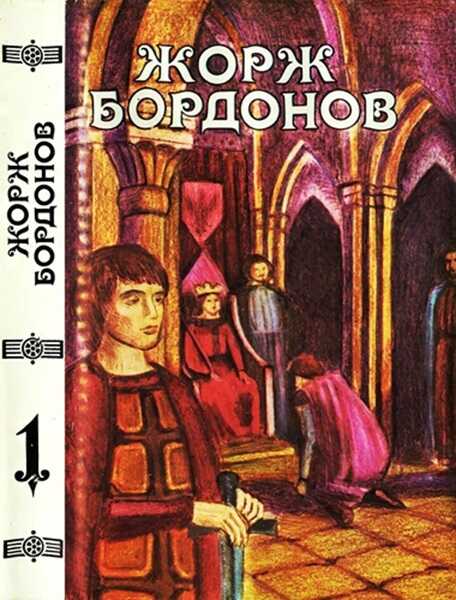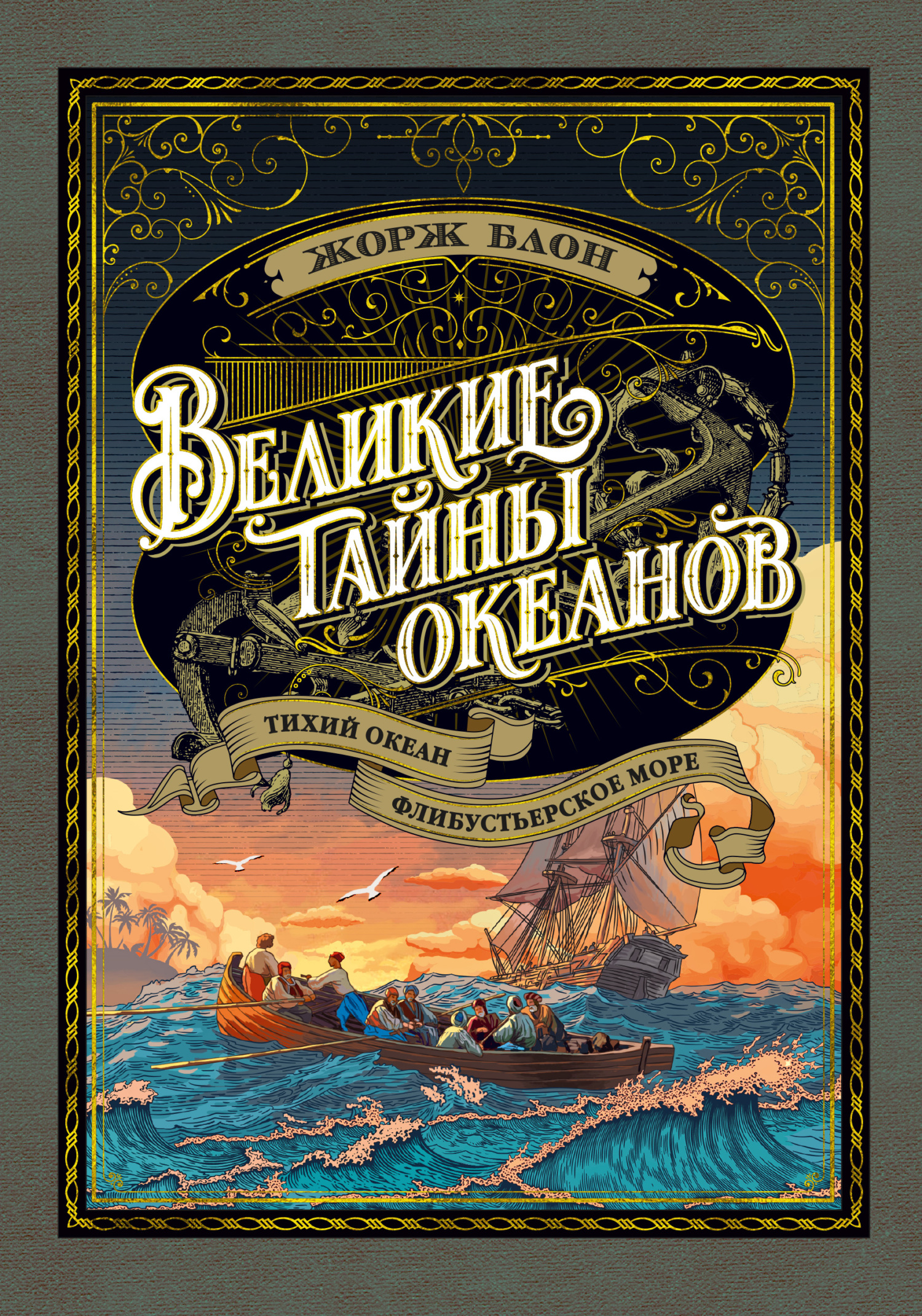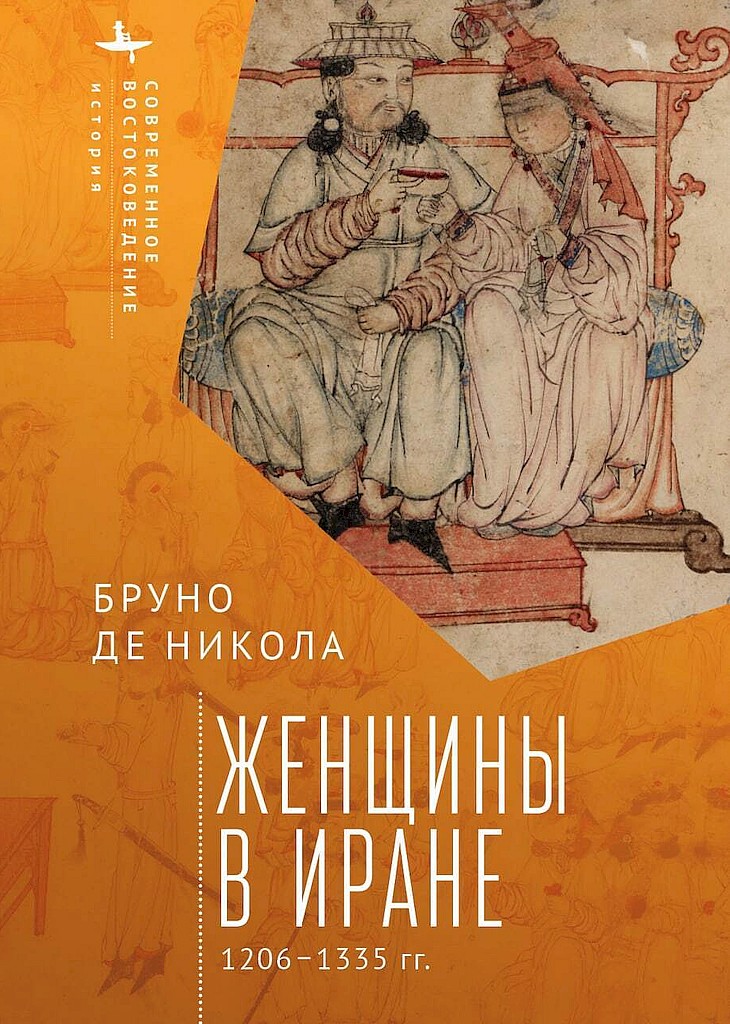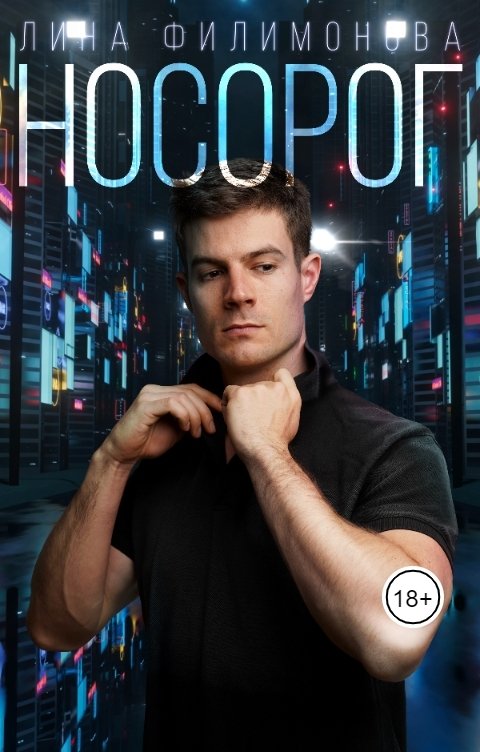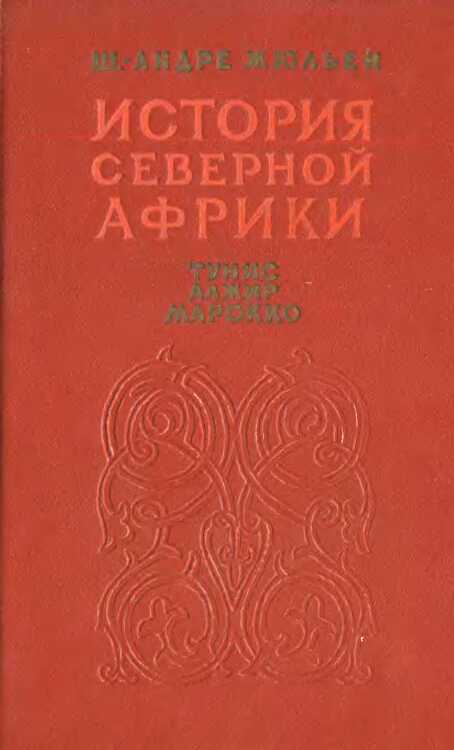Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В первый том собрания романов Ж. Бордонова вошли произведения писателя «Атланты», «Золотые кони» и «Вильгельм Завоеватель». Первый посвящен трагическим событиям, предшествовавшим гибели легендарного суперконтинента Атлантиды. Второй роман повествует о походе Цезаря в Галлию и покорении народа венетов. Действие третьего уносит читателя в Бретань XI века — к знаменитому походу герцога Вильгельма в Англию и битве при Гастингсе в 1066 году. Книга адресована поклонникам историко-приключенческой литературы.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Жорж Бордонов»: