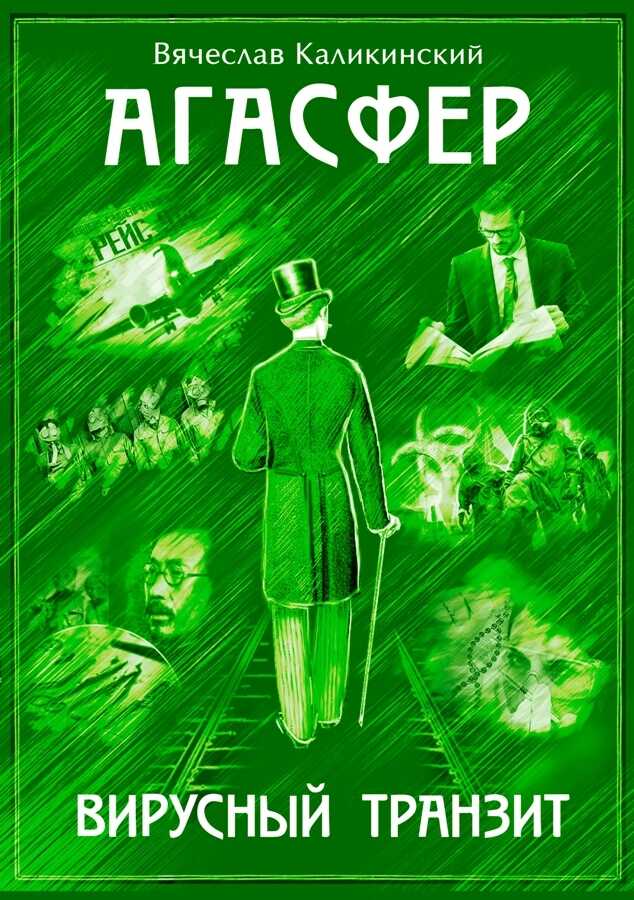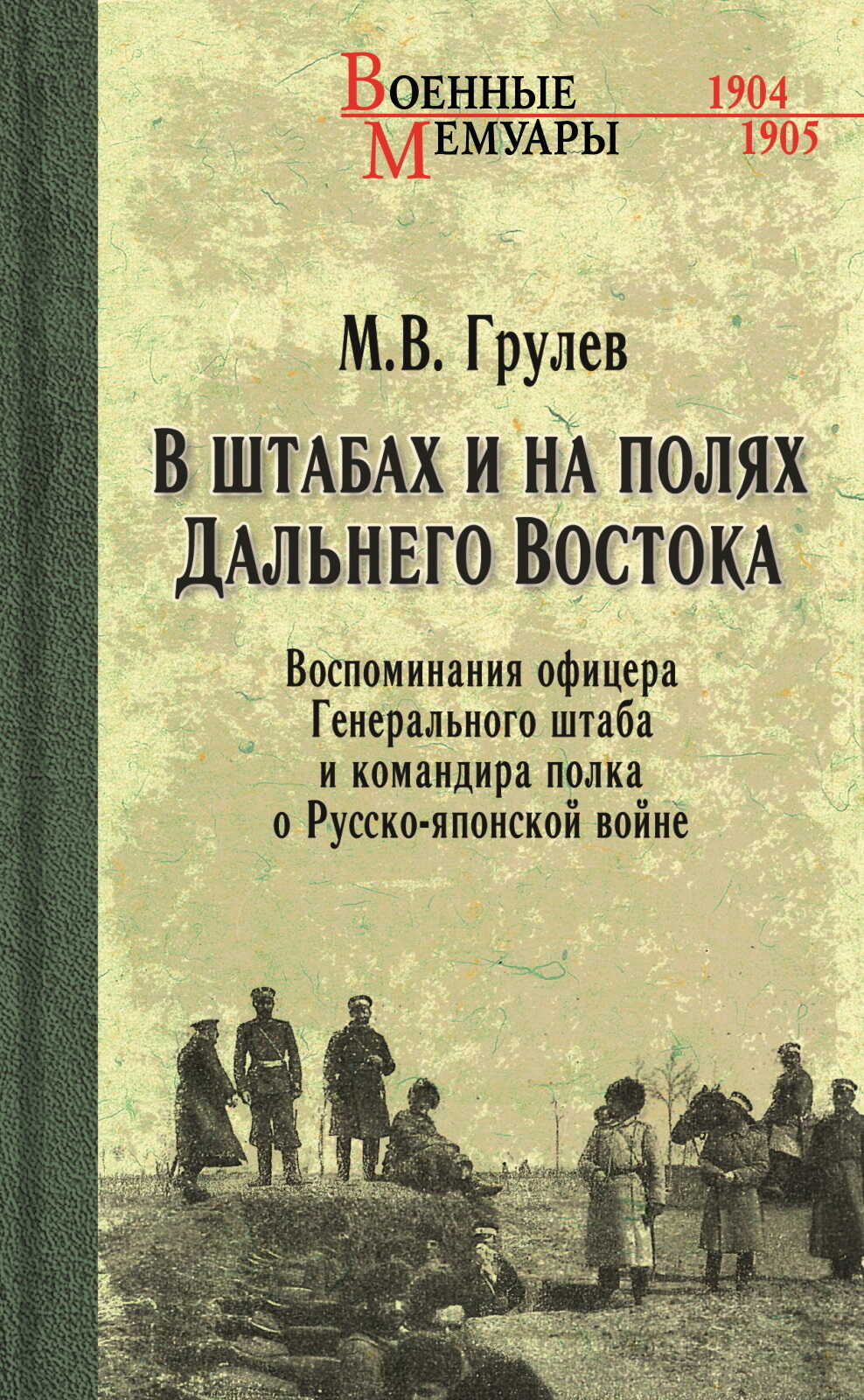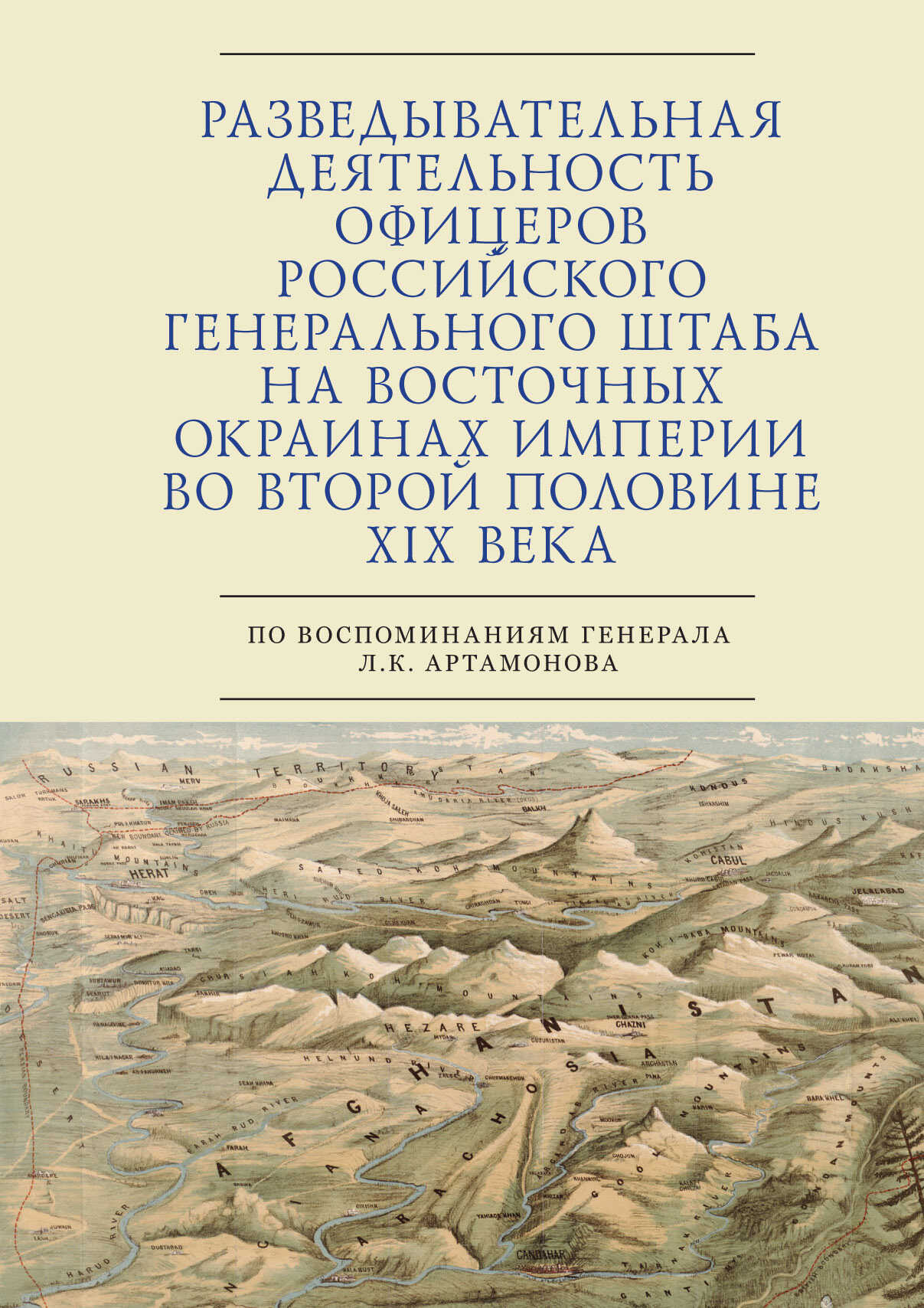Шрифт:
Закладка:
«Вирусный транзит» — финальный роман литературного проекта «Агасфер». В нем, как и в предыдущей книге, живет и действует Майкл Берг, потомок первого разведчика Генерального штаба Русской армии, заброшенного в Страну Восходящего солнца в канун Русско-японской войны 1904–1905 годов. Обстоятельства сложились так, что первый из Бергов, оставшись без связи с Россией, был вынужден сотрудничать с японской спецслужбой. Однако, выполняя ее серьезные и опасные поручения, он никогда не работал во вред России. Теми же принципами руководствовались оставшиеся в Японии его потомки — сын, внук и правнук. Оперативное чутье и аналитические способности Берга снова понадобились Информационно-исследовательскому Бюро при кабинете министров Японии. Стране грозит огромный репутационный ущерб, если миру станет известна связь нынешних экспериментов, проводимых в американских биологических лабораториях на Украине, с преступной деятельностью «Отряда 731». Это подразделение Квантунской армии в сороковых годах готовило Советскому Союзу и всему миру тихую и страшную бактериологическую войну. Кабинет министров Японии ставит перед своей спецслужбой задачу уничтожить вирус чумы, расшифровка генома которого может явить миру связь с разработками изуверов «Отряда 731». Между тем, появление на Украине агента азиатской расы было просто невозможно. И японец в четвертом поколении Берг становится единственным кандидатом для выполнения полученного задания.