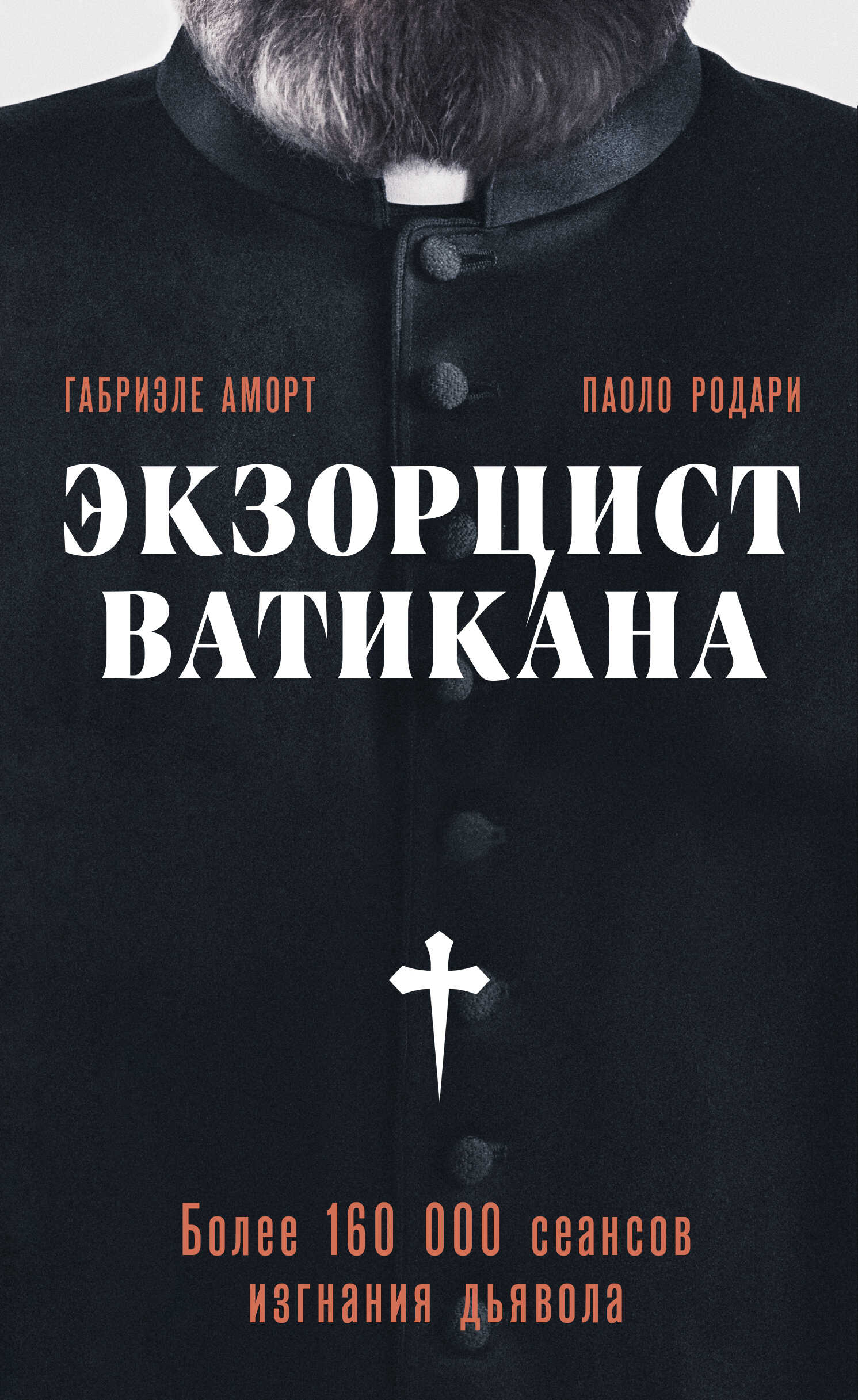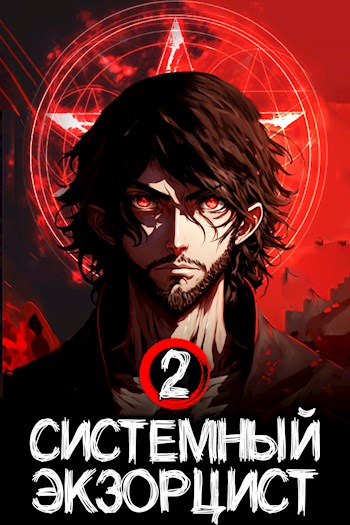Шрифт:
Закладка:
ЭКРАНИЗАЦИЯ С РАССЕЛОМ КРОУ В ГЛАВНОЙ РОЛИ.ОТКРОВЕНИЯ ОТЦА ГАБРИЭЛЕ АМОРТА – ЗНАМЕНИТОГО КАТОЛИЧЕСКОГО СВЯЩЕННИКА, ПРОВЕДШЕГО ОБРЯД ЭКЗОРЦИЗМА БОЛЕЕ 160 000 РАЗ.Тот, кто наберет телефонный номер отца Аморта, услышит на другом конце потрескивающий голос автоответчика: «Для консультации заявитель должен прислать следующие медицинские и психиатрические заключения…». Далее следует список клинических испытаний. Только после изучения ответов врачей и психиатров священник решает, принимать ли предполагаемого одержимого.В возрасте 86 лет, проведя десятки тысяч сеансов изгнания дьявола, главный экзорцист Ватикана рассказывает о самых интересных случаях, с которыми он встречался. Речи на иностранных языках, нечеловеческая сила, левитация, необъяснимое знание будущего, порча, наведенная при помощи темной магии – уже рутина для отца Аморта. В своей книге он описывает, чем по-настоящему одержимые люди отличаются от людей с психологическими проблемами и кто наиболее подвержен влиянию демонических сил.Габриэль Аморт считает: борьбе со злом, начавшейся у зарождения мира, суждено продлиться до конца времен, но мы находимся в финальной битве. И очень важно не поддаваться искушению дьявола, потому что он – среди нас.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.