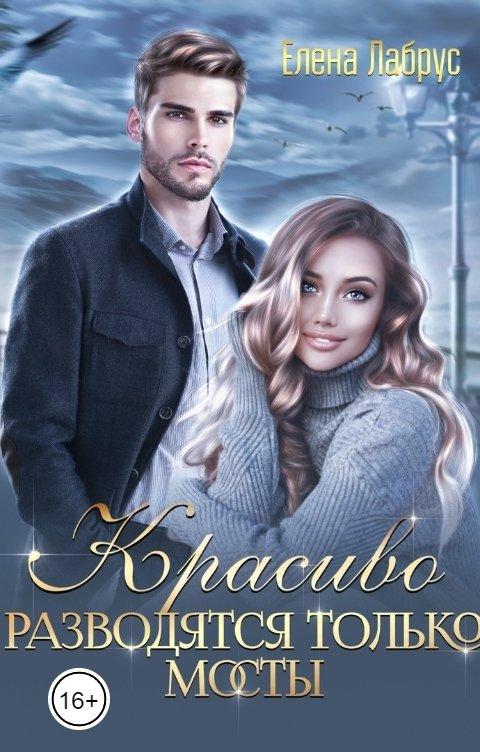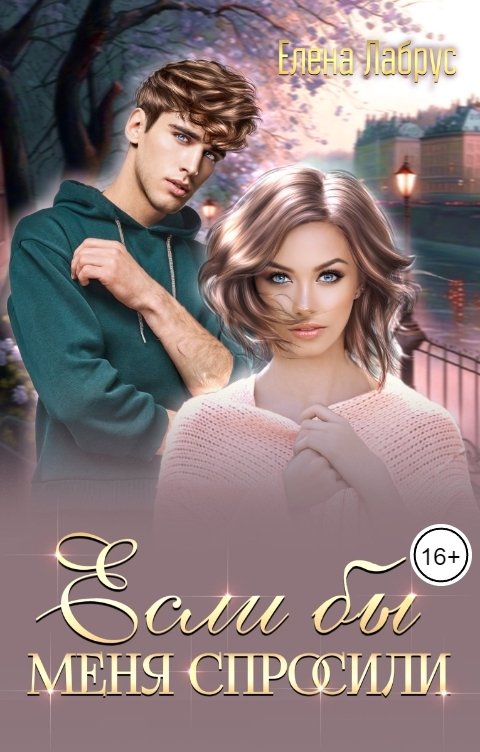Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Первый раз они встретились, когда им было по шестнадцать.Он имел неосторожность влюбиться в девочку с русой косой, она — в хоккеиста.Сейчас им по тридцать. У него жена, приёмный ребёнок, она — разводится со своим хоккеистом.Ни одного шанса, что они могут быть вместе, но судьба сводит их не первый раз, снова...
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Елена Лабрус»: