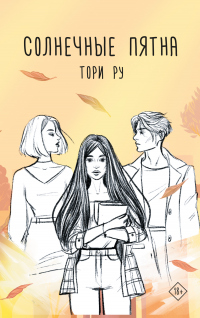Шрифт:
Закладка:
Пламя безжалостно затронуло всех — причастных и непричастных. Настало время действовать, и каждый, даже малейший необдуманный поступок грозит стать роковым. Перемены коснулись всех, и ничто уже не останется прежним ни для Проклятой Четвёрки, ни для Ровены, ни для самого Прибрежья. Кому-то придётся встретиться лицом к лицу со своими внутренними демонами, чтобы наконец одержать над ними верх или уступить тьме. Кто-то будет уверенно идти к своей цели, поставив на кон всё самое ценное и слепо полагаясь на свет своей путеводной звезды. А кто-то, высвободив свою истинную сущность, поддастся зову хаоса и разрушения, сделав их своим единственным смыслом жизни. Но, очутившись в смерче событий, как бы не позабыть самого важного: за каждое действие рано или поздно предстоит ответить. И от расплаты всё равно не убежать, не скрыться ни в Мёртвых Пустошах, ни в Безмолвных Лесах, ни в тени Спящего Короля.