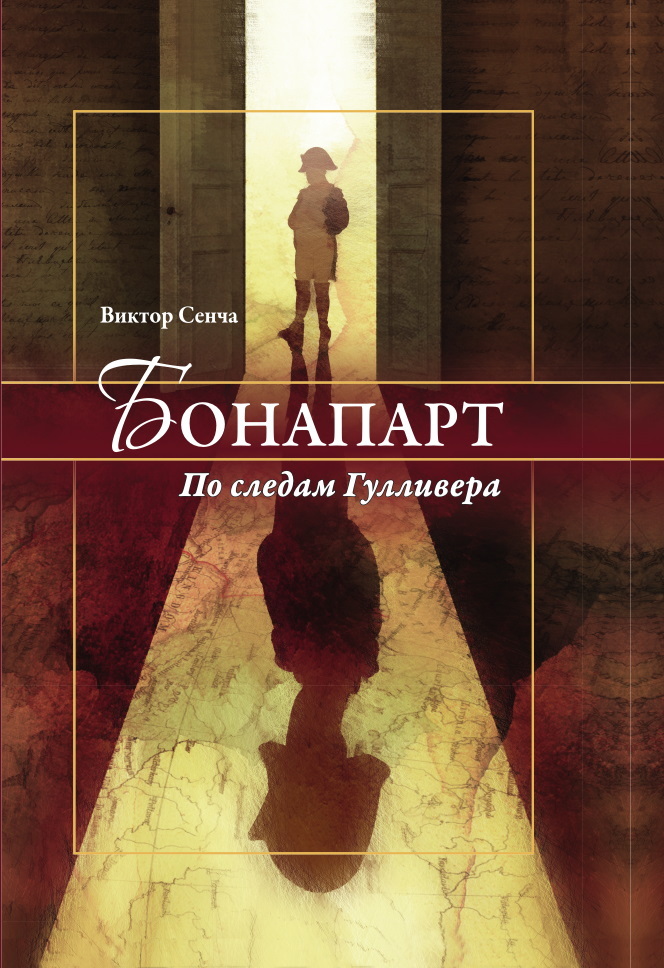Шрифт:
Закладка:
Впечатляющая сага о первой из «Вдов шампанского» Франции – Барб-Николь Клико. Обладая редким даром, известным как «Le Nez» (Нос), Барб-Николь способна создавать невероятные купажи, а также обонять «вонь лжи или благоухание чистого сердца. Или разрывающий сердце запах несбывшейся надежды». Кроме этого дара она обладает смелостью и верой в себя; преодолевает немыслимые трудности в годы действия кодекса Наполеона, который оставлял вдов без права на собственность, а в случае Барб-Николь – без ее винодельни, без ее шампанского. Сюжет, искусно переплетенный с историческими письмами Наполеона, переносит читателя в разгар турбулентной французской жизни начала XIX века, когда Барб-Николь Клико-Понсарден создала свою империю – великую империю шампанского.