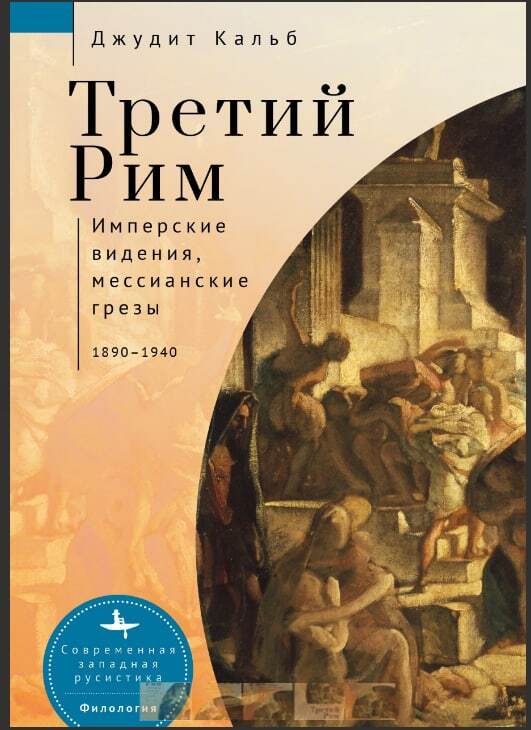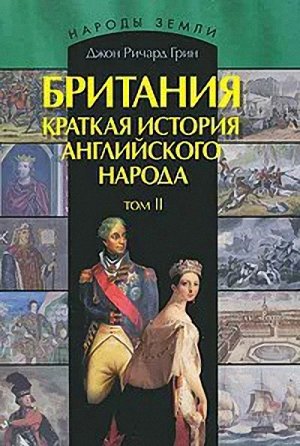Шрифт:
Закладка:
Подвергая всестороннему анализу такие понятия, как имперскость, религиозные пророчества и национализм в литературе, Джудит Кальб обращается к теме самоидентификации России с Римом в период с 1890 по 1940-й год. Исследуя тексты шести писателей – Д. Мережковского, В. Брюсова, А. Блока, Вяч. Иванова, М. Булгакова и М. Кузмина – автор утверждает, что миф о русском (скифском) Риме не только пережил крушение империи и появление нового государства, но был возрожден с целью создания новой национальной идентичности. Используя многогранность символизма и связанную с Римом риторику, русские авторы-модернисты пытались интегрировать национальную историю России в архетипическое западное повествование и в то же время утвердить значимость роли восточного партнера, которой часто пренебрегают.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.