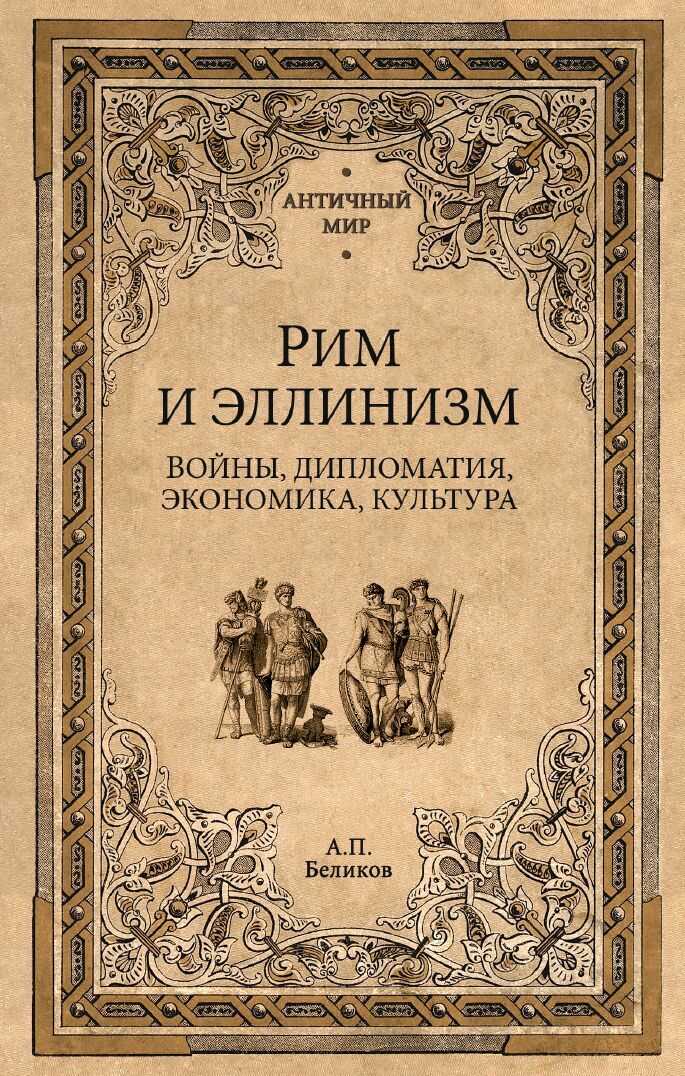Шрифт:
Закладка:
Рим, в течение веков продвигаясь к вершине своей славы, традиционно сочетал во внешней политике передовое военное искусство с хитроумными дипломатическими приемами. Приходя на помощь слабому государству, римская держава до времени умело скрывала свои агрессивные планы. Так Рим поступал на Западе, ту же политику проводил он и на Востоке. После окончания II Пунической войны, в достаточно краткий исторический период, римляне находят союзников среди эллинистических государств, создают военно-политические коалиции, умело используют смуты и несогласия внутри греческого мира. Постепенно захватывая одну страну за другой, Рим все шире распространяет свое господство па Восточное Средиземноморье и Малую Азию.Книга посвящена истории политических, экономических и культурных связей Республиканского Рима с государствами Восточного Средиземноморья. Автор рассматривает сложные вопросы римской военной экспансии, торговли и дипломатии, а также развитие основных принципов мировой политики Рима.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.