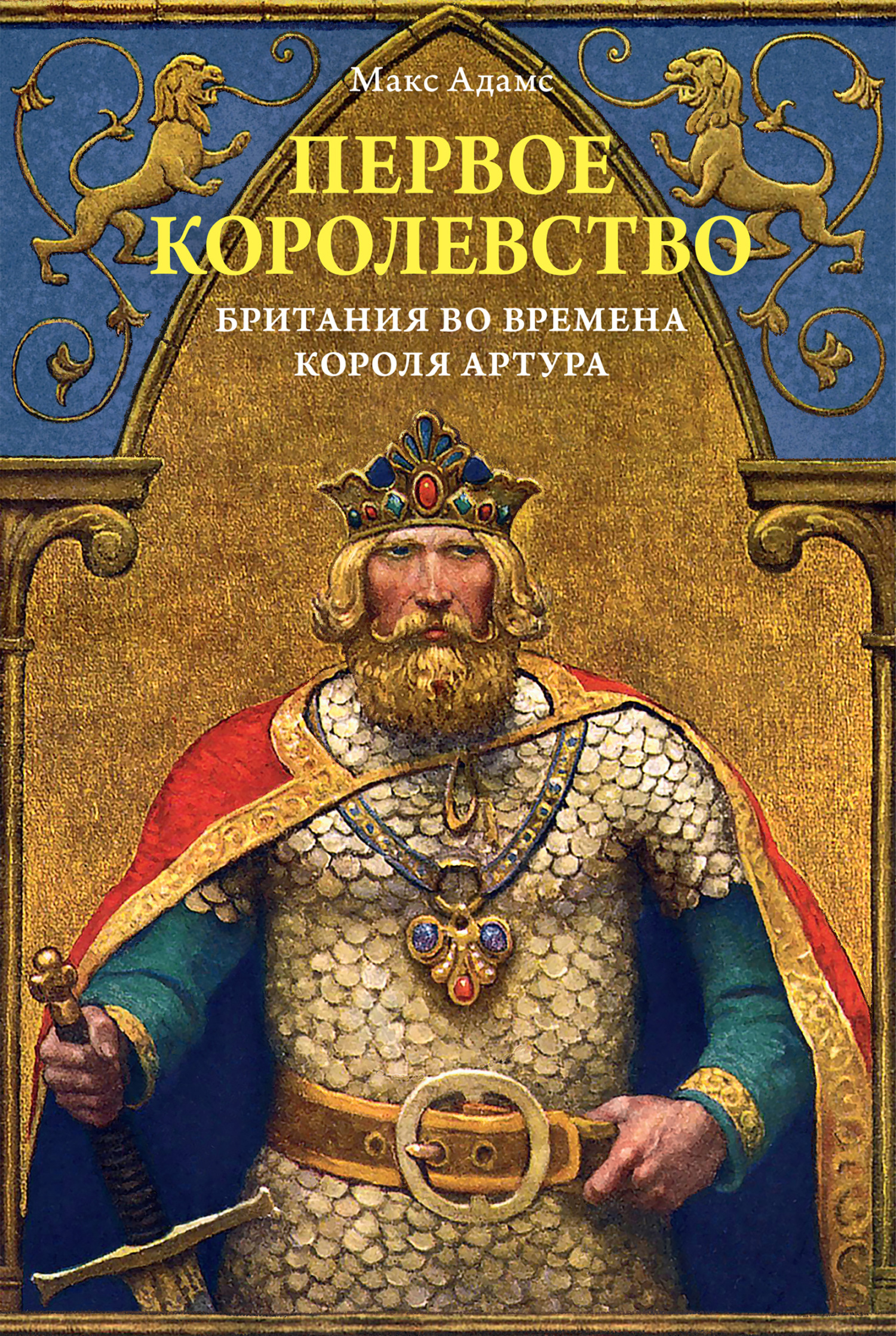Шрифт:
Закладка:
Крестьянские восстания эпохи Гражданской войны занимают важнейшее место в истории становления советской власти, оставив глубокий след в культурной памяти следующих поколений. За прошедшие сто лет акценты и способы описания крестьянских протестов несколько раз радикально менялись — от официальной советской трактовки выступлений как «кулацко-эсеровских мятежей» до романтизации повстанцев в период перестройки. Большевистская цензура и постепенное исчезновение деревенского мира привели к тому, что история народных выступлений тех лет рассказана в основном «чужими голосами». Данная коллективная монография исследует особенности сохранения и передачи памяти об этих событиях. Какие процессы, связанные с памятниками и местами коммеморации, происходили на протяжении последних ста лет? Как передавались устные воспоминания от старших поколений к младшим? Как менялась за это время частная и семейная память? Какое влияние массовая культура оказывает на историческую память о восстании? Ответы на эти вопросы авторы освещают на примере Тамбовского и Западно-Сибирского восстаний и ряда других выступлений. Многие мемуарные источники, интервью и архивные документы, используемые авторами, вводятся в научный оборот впервые.