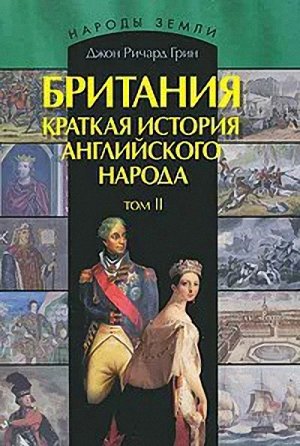Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В книге представлена история современной демократии в ее кризисных моментах – от Первой мировой войны до экономического краха 2008 г. Рассматривается, как демократия смогла пережить ряд серьезных угроз, среди которых Великая депрессия, Карибский кризис, Уотергейт и падение банка Lehman Brothers. Особое внимание уделяется политикам и мыслителям, которым пришлось иметь дело с этими кризисами: Вудро Вильсону, Джавахарлалу Неру, Конраду Аденауэру, Фрэнсису Фукуяме и Бараку Обаме.Книга адресована историкам, политологам, экономистам, а также широкому кругу читателей.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Дэвид Рансимен»: