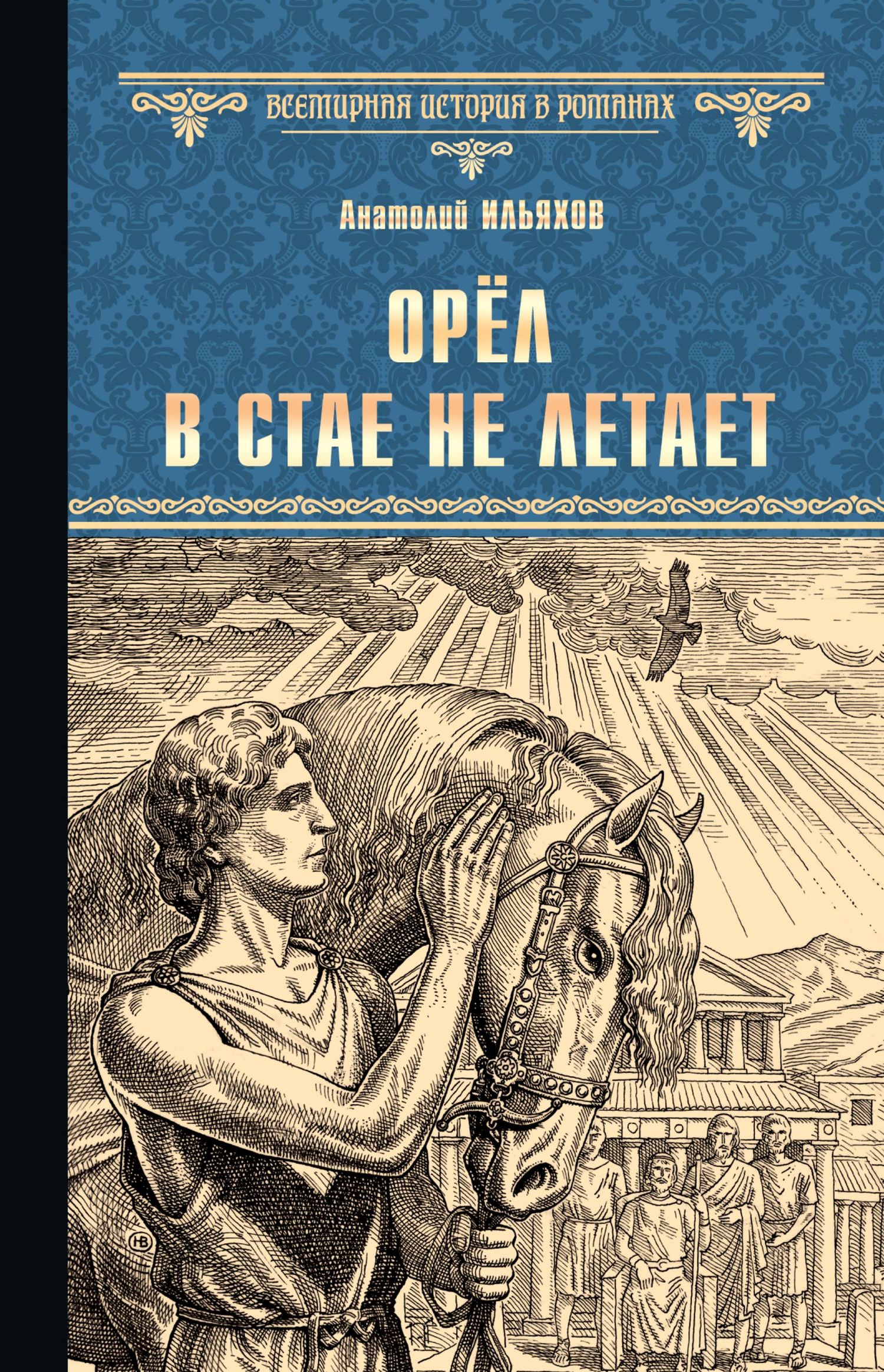Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Издательство «Вече» в рамках популярной серии «Военные приключения» продолжает публикацию произведений известного русского писателя Юлиана Семенова. Война не бывает милосердной. Всегда и везде она собирает свою кровавую жатву, невзирая на правых и виноватых. Чья правда главнее, так и не смогли выяснить советский журналист Степанов и американский летчик Эд, когда судьба свела их далеко от родного дома, на чужой для обоих войне… «Ненаписанные романы» – это сборник необычных новелл, объединенных одной, не дававшей покоя автору мыслью: что такое неограниченная власть и чем она опасна для большинства людей?
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Юлиан Семенов»: