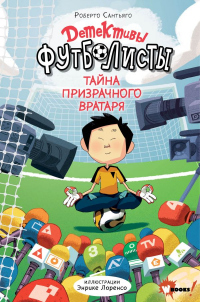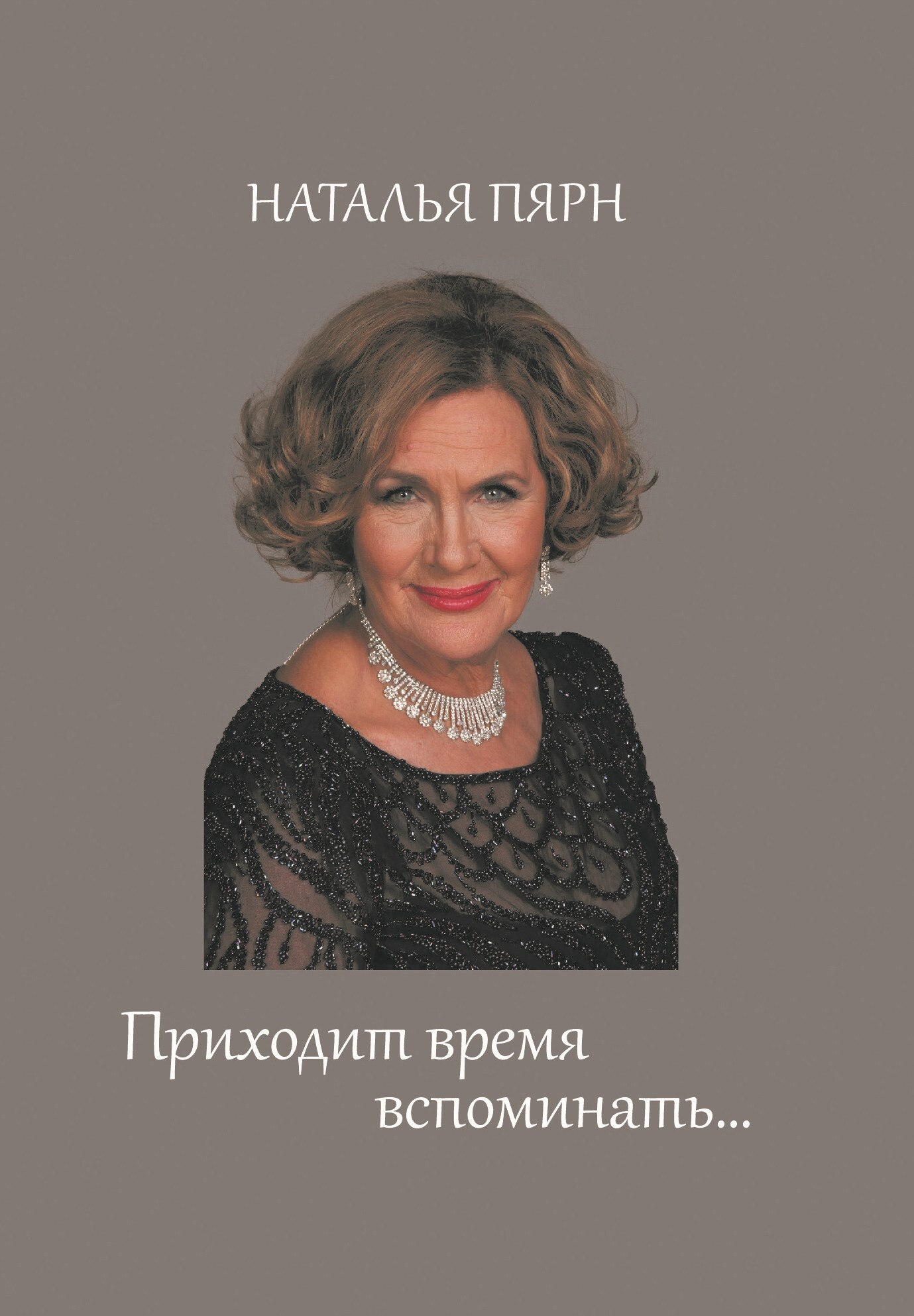Шрифт:
Закладка:
Гавана. 1993 год. На Кубе — разгар «особого периода», широкомасштабного экономического кризиса, возникшего после распада СССР. Пустые полки в магазинах, отключение электричества и безработица стали обычным делом. Хулия, учительница математики, полагает, что, отыскав документ, доказывающий, что телефон изобрел не Александр Грейам Белл, а Антонио Меуччи в Гаване, она сможет изменить свою жизнь. Вместе с группой движимых донкихотской целью единомышленников Хулии предстоит разобраться в запутанной семейной истории в период национального отчаяния на Кубе. «Гавана, год нуля» — страстный и ироничный роман, щедро сдобренный кубинским колоритом, в котором рассказ о судьбах людей, пытающихся выжить в эпоху перемен, умело вплетается в захватывающее детективное расследование.