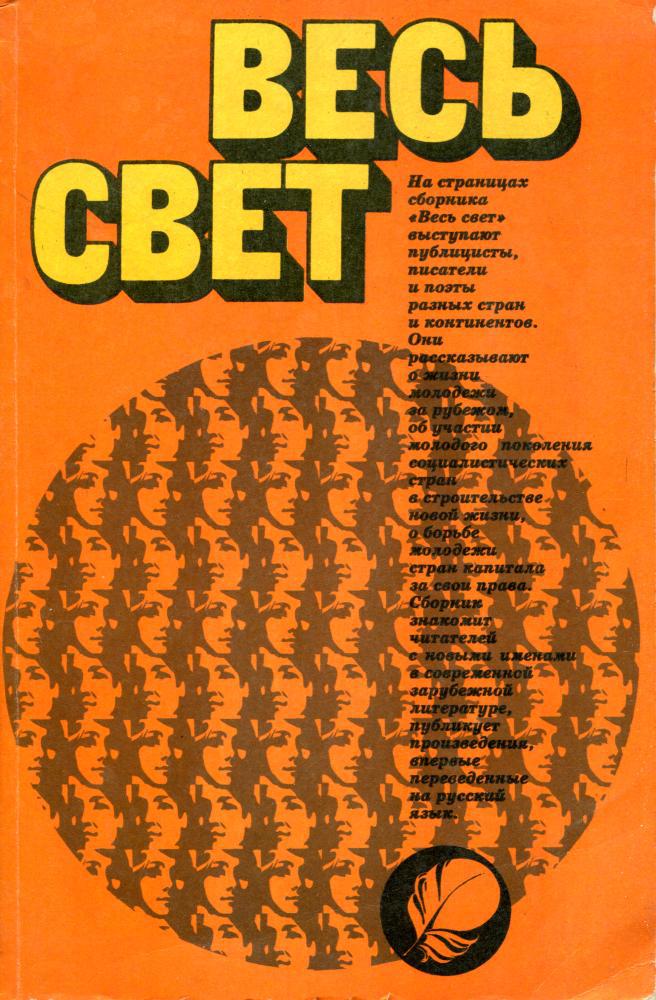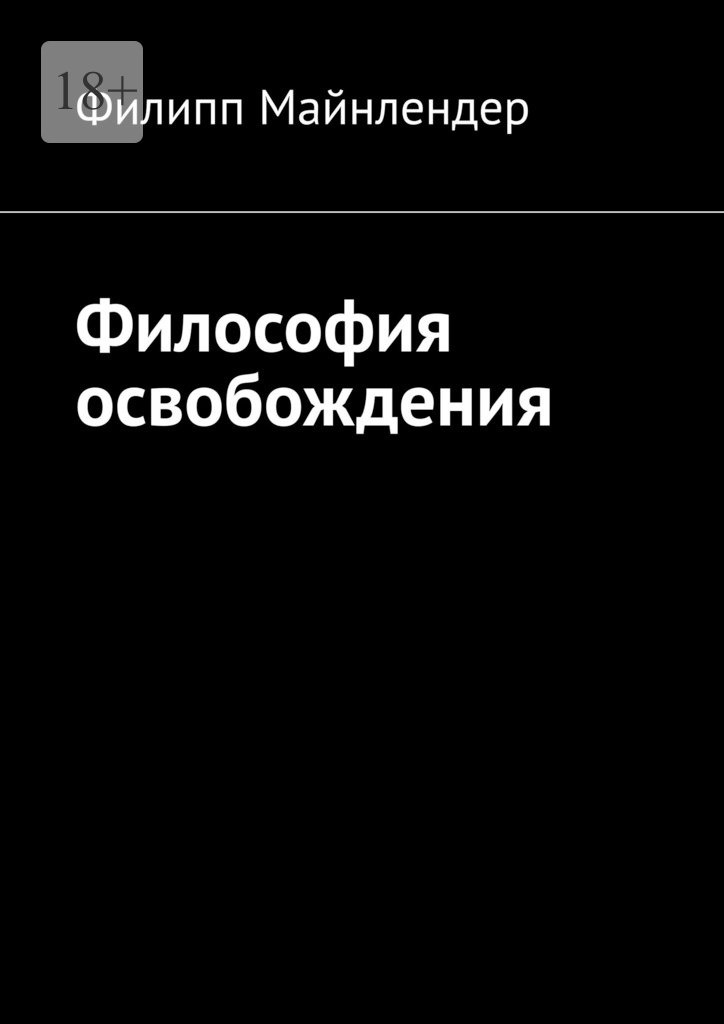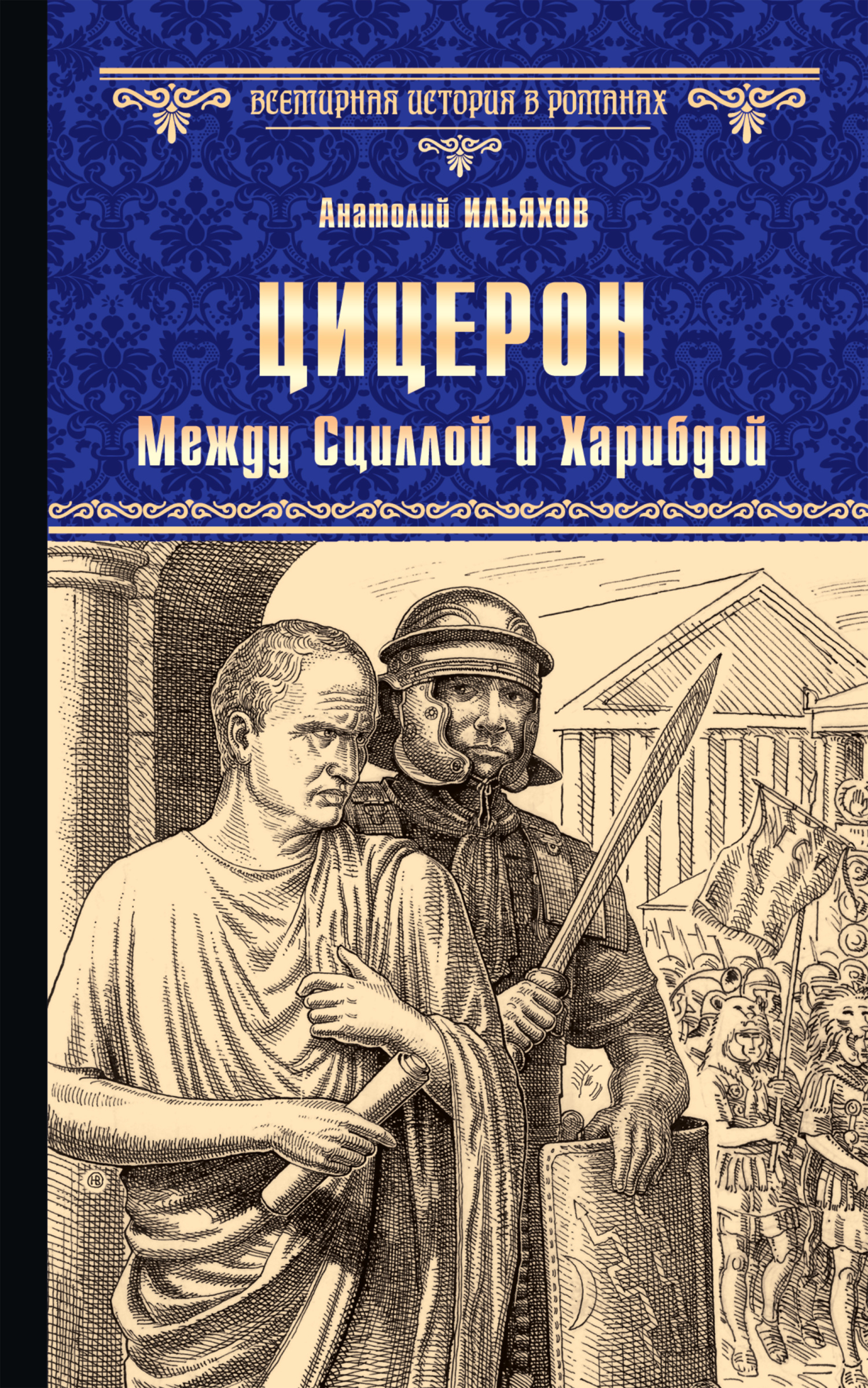Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В сборник «Весь свет» вошли произведения писателей и поэтов разных стран. Они знакомят читателя с проблемами сегодняшнего дня за рубежом, ставят на обсуждение актуальные социальные и политические вопросы современности, обращаются к судьбам молодых людей. Многие произведения переведены на русский язык впервые.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Анатолий Владимирович Софронов»: