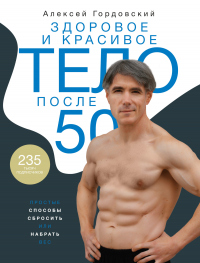Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Изменив судьбу одного лишь человека, путешественник во времени Дитр Парцес обнаружил, что весь ход истории пошёл наперекосяк – Конфедерация гниёт изнутри, погрязла в бандитизме и коррупции, а посмертие предков решило наказать разлагающееся государство страшным туманом, в котором сходят с ума и гибнут люди.В этом тумане Парцесу предстоит отыскать путь к странному сердцу проклятого человека, потерявшего семью, репутацию и рискующего вдобавок лишиться рассудка, – гениального изобретателя Рофомма Ребуса. Ведь только он один способен избавить страну от гибельной тьмы.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Евгения Дербоглав»: