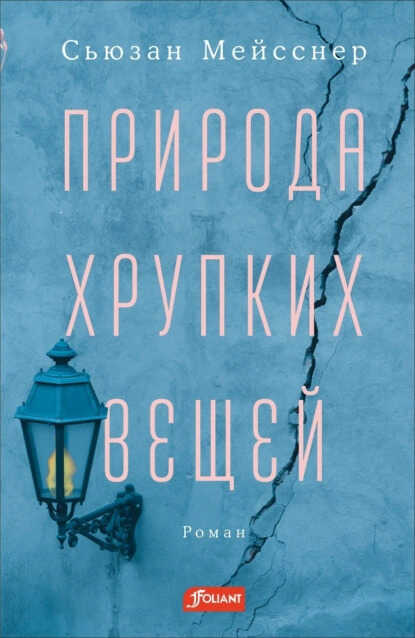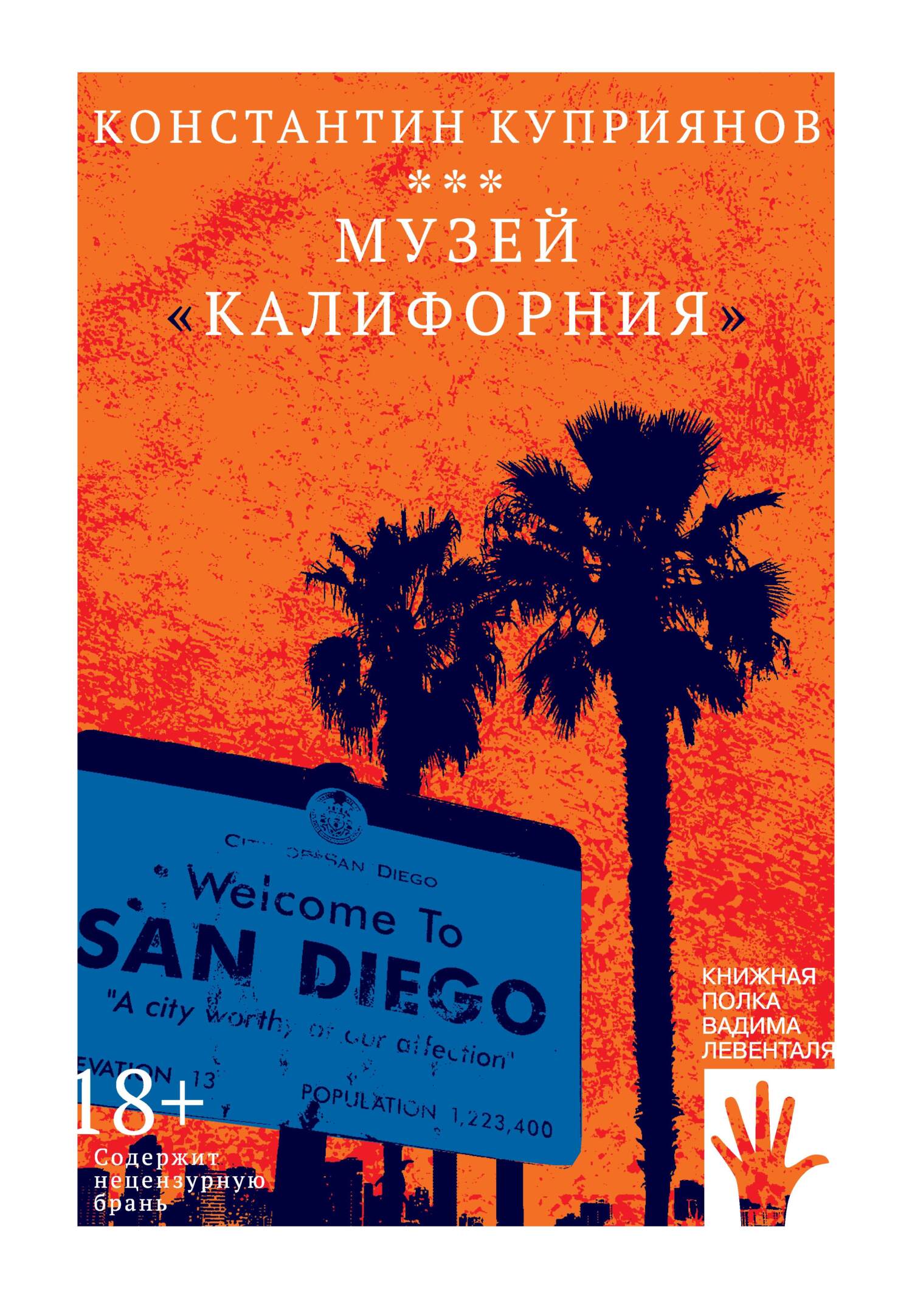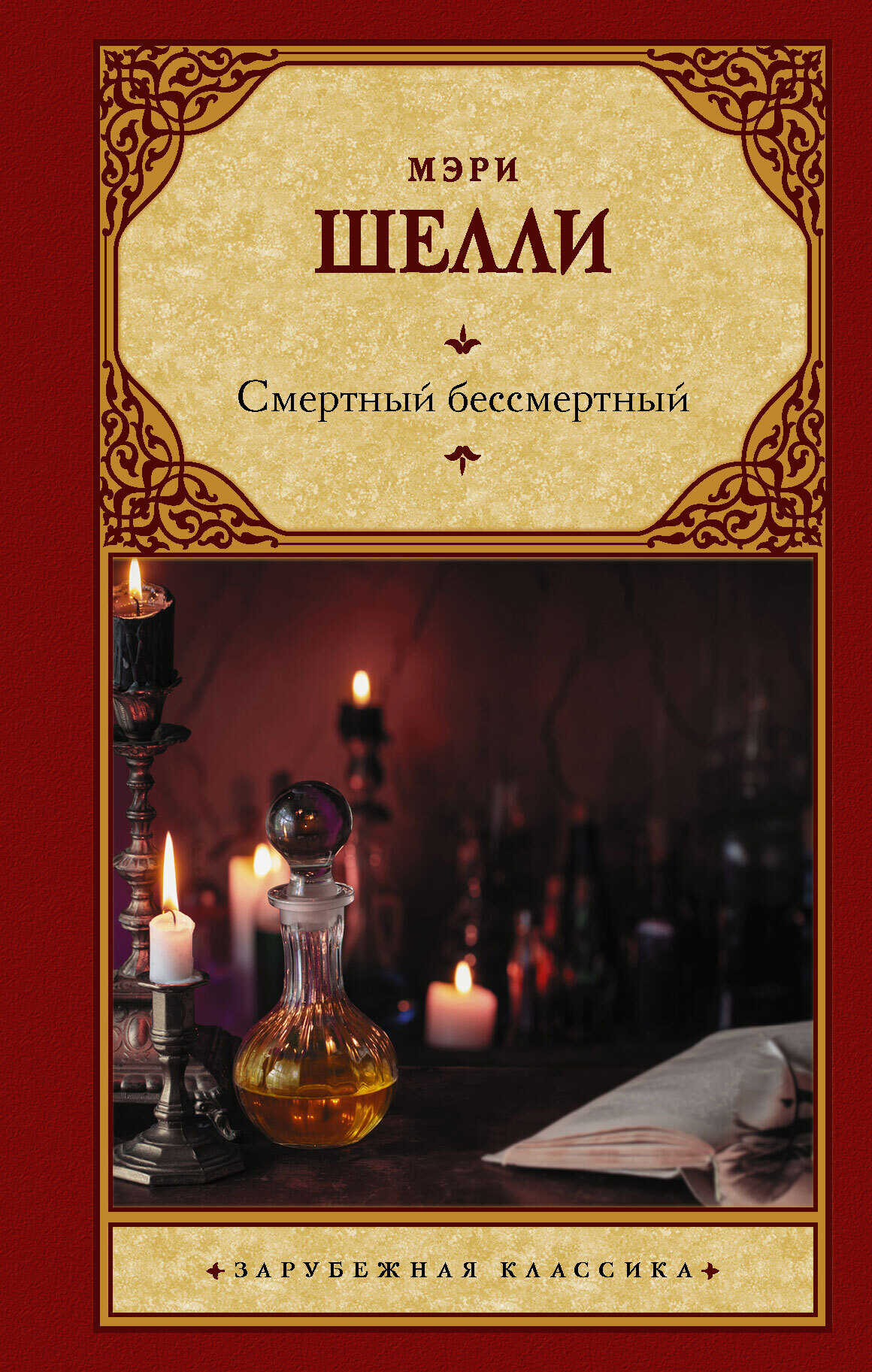Шрифт:
Закладка:
Софи Велан, молодая иммигрантка из Ирландии, любой ценой мечтающая вырваться из убогой квартиры в Нью-Йорке, откликается на брачное объявление в газете и соглашается выйти замуж за человека, о котором совсем ничего не знает. Ее жених — Мартин Хокинг, вдовец из Сан-Франциско, — потрясающе хорош собой, но он абсолютно равнодушен к Софи. Молодая женщина сразу же проникается симпатией к пятилетней дочери Мартина Кэт. Но та почти не разговаривает. Это и странное поведение Мартина внушают Софи чувство беспокойства, она начинает понимать, что в ее новой жизни что-то не так. Однажды вечером в начале весны к ней домой приходит незнакомая женщина, и за этим визитом следует цепочка важных событий. Софи узнает о тщательно скрываемых связях Мартина с двумя другими женщинами. Судьбы этих трех женщин переплетаются незадолго до разрушительного землетрясения, вынуждающего их пуститься в опасное путешествие, которое станет испытанием на прочность их стойкости, решимости и — в конечном итоге — веры в то, что любовь превозмогает страх. «Природа хрупких вещей» — проникнутая эмоциями захватывающая книга популярной американской писательницы об узах дружбы, материнской любви и силе женской солидарности.